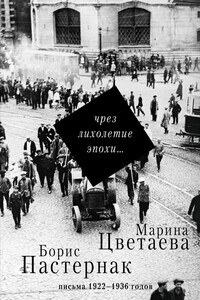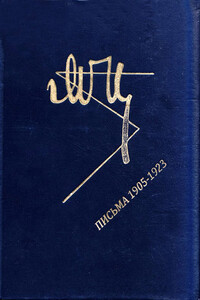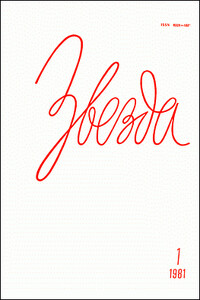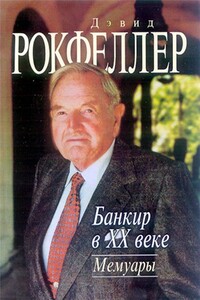Том 4. Книга 1. Воспоминания о современниках | страница 165
Возьмем шире: у нас с Францией никогда не было родства. Мы — разные. У нас к Франции была и есть любовь, была, может быть, еще есть, а если сейчас нет, то, может быть, потом опять будет — влюбленность, наше взаимоотношение с Францией — очарование при непонимании, да, не только ее — нас, но и нашем ее, ибо понять другого — значит этим другим хотя бы на час стать. Мы же и на час не можем стать французами. Вся сила очарования, весь исток его — в чуждости.
Расширим подход, подойдем надлично. Мы Франции обязаны многим — обязан был и Макс, мы от этого не отказываемся — не отказываюсь и за Макса, какими-то боками истории мы совпадаем, больше скажу: какие-то бока французской истории мы ощущаем своими боками. И больше своими, чем свои.
Возьмем только последние полтора столетия. Французская революция во всем ее охвате: от Террора и до Тампля (кто за Террор, кто за Тампль, но всякий русский во французской революции свою любовь найдет), вся Наполеониада, 48-й год, с русским Рудиным на баррикадах, вся вечерняя жертва Коммуны, даже катастрофа 70-го года.
Vous avez pris l'Alsace et la Lorraine.
Mais notre coeur vous ne l’aurez jamais…[123] — все это наша родная история, с молоком матери всосанная. Гюго, Дюма, Бальзак, Жорж Занд, и многие, и многие — наши родные писатели, не менее, чем им современные русские. Все это знаю, во всем этом расписываюсь, но — все это только до известной глубины, то есть все-таки на поверхности, только ниже которой и начинается наша суть, Франция чуждая.
На поверхности кожи, ниже которой начинается кровь.
Наше родство, наша родня — наш скромный и неказистый сосед Германия, в которую мы — если когда-то давно ее в лице лучших голов и сердец нашей страны и любили, — никогда не были влюблены. Как не бываешь влюблен в себя. Дело не в историческом моменте: «В XVIII веке мы любили Францию, а в первой половине XIX-го Германию», дело не в истории, а в до-истории, не в моментах, преходящих, а в нашей с Германией общей крови, одной прародине, в том вине, о котором русский поэт Осип Мандельштам, в самый разгар войны:
Гениальная формула нашего с Германией отродясь и навек союза.
Вернемся к Максу. Голословным утверждением его германства, равно как ссылкой хотя бы на очень сильную вещь: кровь — я и сама не удовлетворюсь. Знаю одно: германство было. Надо дознаться: в чем. В жизни? На первый взгляд нет. Ни его живость, ни живопись, ни живописность, ни его — по образу многолюбия: многодружие, ни быстрота его схождения с людьми, ни весь его внешний темп германскими не были. Уж скорее бургундец, чем германец. (Кстати, Макс вина, кроме как под Новый год, в рот не брал: не нужно было!)