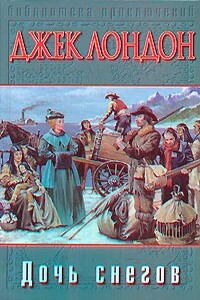Дансинг в ставке Гитлера | страница 44
Глаза у меня были широко открыты, и я смотрел в небо, в узкую полоску неба, темного, как расплавленный свинец, залившего просвет между бетонными краями, откуда вырастали жутко изогнутые тросы и стальные прутья, рыжие и разбухшие от сырой ржавчины, и когда Анка заглянула мне в глаза, то увидела все, что видел я, и ее словно током от меня отбросило, она поправила волосы и вышла на дорожку, там я догнал ее, и мы вместе, в злом молчании, какие-то вдруг озябшие, пошли в ресторан «Волчья яма», чтобы выпить горячего чая и почувствовать себя людьми.
Там было душно и жарко. Муторный запах свекольника, толкучка у стойки и занятые, заставленные посудой столики, яростные официанты, мечущиеся, как слепни, пронзительный писк детворы — мы лишь заглянули туда, сделали один только шаг, и все это шибануло, как молотом по нас грохнуло…
— Это же пытка будет, — сказала Анка. — Ты только глянь, сколько его набилось, простолюдья этого. Лучше уж три дня не есть…
Я хотел сказать, что мы такое же простолюдье, потому что господа все за границу сбежали, и если бы нашелся столик, Анка первая бы за него уселась, и кто-нибудь тоже мог бы сказать «простолюдье», — так я хотел сказать, уже было рот открыл, да вдруг в конце зала у колонны я увидел пустой, почти свободный столик и над ним руку, машущую нам, и, прежде чем я сообразил, Анка уже шла туда, сквозь склонившуюся над жратвой ораву, ловко прогибаясь в талии, шла к этому столику у колонны, где мужская рука в сверкающей манжете покачивалась над красиво прилизанной головой, над коричневым лицом, кожа которого была выделана коньяком и соками наилучших фруктов, эта призывающая рука, этот сигнал, которым никто не мог пренебречь, даже я, потому что Анка была уже возле него, потому что это был он, виновник моего позора, моего двухлетнего терзания, это был как раз
немец. Хозяин «мерседеса» встал со стула и сказал на чистом польском языке:
— Прошу вас, тут есть свободные места.
При этом он ослепительно улыбнулся, и зубы у него были белые, как воротничок его нейлоновой рубашки, которую не надо утюжить и которая стоит в комиссионке восемьсот пятьдесят злотых, и разве только сумасшедший купит этакое за половину месячного жалованья.
— Спасибо, — сказала Анка, и мы чинно и настороженно сели, как дети на трудном уроке.
Это была ошибка, это была величайшая ошибка, тем более что самая последняя, ведь после нее я уже не делал ошибок, все пошло своим чередом, как и положено, и каждый мог это предвидеть, каждый, но только не я. Было еще время, пока Анка туда подходила, повернуться, толкнуть дверь и смотаться, вскочить на верный мой велосипед и скрыться, никто бы меня не догнал в этом лесу, на этих тропинках и мазурских дорогах, никто и на ста «мерседесах».