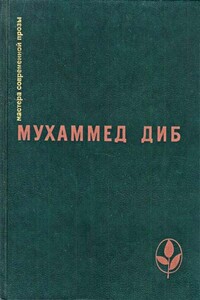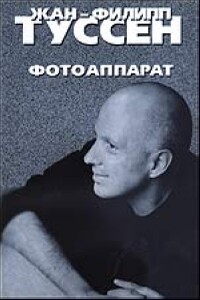Повелитель охоты | страница 37
По своему обыкновению он повторяет:
— Разделить ваши тяготы. Спаять узами наши жизни.
Тот, первый, набирает в грудь воздух. Но ответ, так и не родившись, замирает у него на устах.
Не знаю, так же ли поняли это остальные. Я только вижу, что он, внезапно передумав, решает промолчать, а если и высказать что-то, то не вслух, а лишь глазами — глазами, в которых заплясало неистовое пламя. И видимо, не столько потому, что ему недостает слов, сколько потому, что они слишком жгучи, а может, слишком тяжелы для его языка. А еще потому, что произнести эти слова значило бы что-то порушить, предать, продать; это значило бы изъять часть чего-то важного, о чем не говорят вслух.
Сцепив кисти, он стоит, не видя нас. Потом поднимает руку и говорит:
— А рах.[5]
Лицо его заволакивается выражением терпеливости, разливая в воздухе только безмерную жалость, которая покалывает кожу, как шипы агавы. Она словно доверительно внушает: ничего, не нужно сердиться, здесь все — оскорбление.
Она говорит: даже слова, что ты слышишь.
Даже слова, что произносишь в ответ.
Свечные огарки, которые у него вместо глаз, гаснут вместе с выгоревшим фитилем взгляда внутри.
В противоположность красной крови зубов кровь души черна.
Тижани говорит:
— А кто вы такие, что так жаждете делать людям добро? Что вас к этому побудило?
Тот, который называет себя Маджаром, не удивился моему вопросу.
— Быть может, братство еще не покинуло этот мир, — отвечает он.
Я хмыкаю.
А он:
— Что, неправда?
— Не так уж много осталось ветвей, где оно может свить гнездо.
Он возражает:
— Все равно стоит искать. Надо всегда пытаться. Чтобы знать.
Я ощупываю пальцами воротник его рубашки.
— Вы пришли из города, разве не так?
— Откуда кто пришел, не имеет никакого значения.
— Среди вас есть даже один француз.
— Это совсем не важно: разве ты можешь сказать, что скрывается в шкуре человека?
Но я в ответ:
— А что же тогда важно?
— То, что далеко от всего этого, — говорит он.
— Далеко от всего этого? — переспрашиваю я.
— Ниже. Или выше, — говорит он.
И показывает открытую ладонь, потом медленно ее поворачивает.
Я чешу в затылке.
— Значит, так?
— Да, так.
Лабан говорит:
Я слушаю, как ты, Тижани, разговариваешь, покрытый пылью, и…
Это будет потом — возможность, заблудившаяся на земле, на солнце (вместе с собаками), в ветре; в продубленной коже, в поту, в напряженных взглядах. Ты остаешься со своим терпением, упрятанным в глубь тела, со своим сомнением, не желающим идти прочь. Так что ничего больше не говори; где-то вдалеке слышится зов, который с таким же успехом мог бы оказаться погребальным воплем. Но тут нет ничего страшного. Это бесконечная жалость, которую ты готов излить на весь мир, это твое сердце, ненасытное и нежное, как женское лоно. То, что ты, по-твоему, ищешь; но ты не знаешь, чего ищешь. Так что ничего больше не говори.