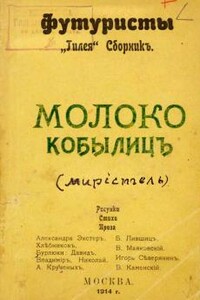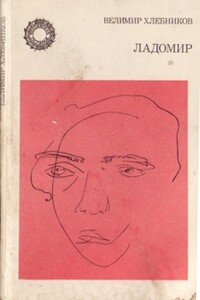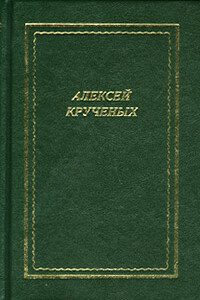Дохлая луна | страница 2
Едва ли не всякое новое направление в искусстве начинало с провозглашения принципа свободы творчества. Мы повторили бы основную методологическую ошибку большинства этих деклараций, если бы попытались говорить о свободе творчества, не установив нашего понимания взаимоотношения между миром и творчеством, сознанием поэта. Нам представляется невозможным творчество в «безвоздушном пространстве», творчество «из себя», и в этом смысле, каждое слово поэтического произведения вдвойне причинно-обусловлено и следовательно, вдвойне несвободно: во-первых, в том отношении, что поэт сознательно ищет и находит в мире повод к творчеству: во вторых, что сколько бы не представлялся поэту свободным и случайным выбор того или иного выражения его поэтической энергии, этот выбор всегда будет определяться некоторым подсознательным комплексом, в свою очередь, обусловленным совокупностью внешних причин.
Но если разуметь под творчеством свободным — полагающее критерий своей ценности не в плоскости взаимоотношений бытия и сознания, а в области автономного слова, — наша поэзия, конечно, свободна единственно и впервые для нас безразлично, реалистична ли, натуралистична или фантастична наша поэзия: за исключением своей отправной точки она не ставит себя ни в какие отношения к миру, не координируется с ним, и все остальные точки ее возможного с ним пересечения заранее должны быть признаны незакономерными.
Но подобное отрицание известного отношения между миром и сознанием поэта в качестве критерия творчества последнего отнюдь не есть отрицание всякого объективного критерия. Выбор поэтом той или иной формы проявления его творческой энергии далеко не произволен. Так, прежде всего, поэт связан пластическим родством словесных выражений. Во-вторых, пластическою валентностию их. В третьих, словесною фактурой. Затем, задачами ритма и музыкальной инструментовки. И наконец, общими требованиями живописной и музыкальной композиции. Во избежание недоразумений, следует оговориться, что хотя кое-что из перечисленного (правда, слабо понятое и весьма вульгарно намеченное) и являлось в некоторых случаях конгредиентом суждений о ценности поэтического произведения, но лишь нами впервые, в строгом соответствии со всею системою нашего отношения к поэзии, придан характер исключительности этим основным моментам объективного критерия.
Отрицая всякую координацию наше поэзии с миром, мы не боимся идти в своих выводах до конца и говорим: она неделима. В ней нет места ни лирике, ни эпосу, ни драме. Оставляя до времени в неприкосновенности определения этих традиционных категорий, спросим: может ли поэт, безразличный, как таковой, ко всему, кроме творимого слова, быть лириком? Допустимо ли превращение эпической кинетики в эпическую статику, иными словами, возможно ли, коренным образом не извращая понятия эпоса, представить себе эпический замысел расчлененным искусственно — не в соответствии с внутреннею необходимостью последовательно развивающейся смены явлений, а сообразно с требованиями автономного слова? Может ли драматическое действие, развертывающееся по своим исключительным законам, подчиняться индукционному влиянию слова, или хотя бы только согласовываться с ними? Не является ли отрицанием самого понятия драмы — разрешение коллизии психических сил, составляющей основу последней, не по законам психической жизни, а иным? На все эти вопросы есть только один ответ: конечно, отрицательный.