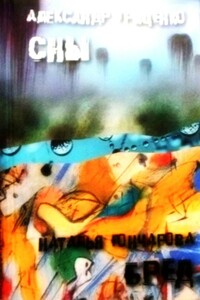Статьи из журнала «Русская жизнь» | страница 31
И тут возникает вопрос о цели, который, вообще-то, в таких случаях задавать не принято. Ну, самое простое объяснение — «чтобы это не повторилось» — отбросим сразу, потому что оно не работает. Это уже повторилось — в Камбодже, скажем, — и никакие рассказы Шаламова никого не остановили, потому что их там не читали. И в России — положа руку на сердце — все это может повториться запросто, сколько бы мы себе ни внушали, что интернет сделал закрытое общество столь же невозможным, как ядерная война. Не будем обольщаться: ядерная война возможна, а закрытое общество и подавно, и львиная доля нашего ужаса перед шаламовской прозой определяется именно тем, что в эту ее гипотетическую функцию — «предотвратить повторение» — никто в России не верит ни секунды. Читательский ужас тем и подогревается, что каждый шаламовский читатель прикидывает все прочитанное на себя — и понимает, что не выдержит.
Выдержать нельзя, Шаламов внушает это с тем же упорством, с каким, помнится, набоковский Фальтер уверял художника Синеусова (Ultima Thule) — мол, его тайна немедленно убьет любого, кто в нее проникнет. Если вы до сих пор не сломались, значит, вас плохо ломали, повторяет Шаламов каждой новой страницей. Ломаются все. И любой читатель отлично знает, что отнять у него свободу, права, доброе имя, работу, жизнь — при всякой власти остается делом одной секунды. Вряд ли какая-нибудь литература, хотя бы и высочайшей пробы, изменит эту ситуацию, являющуюся одним из условий исторического бытия России как таковой.
Но если не ради предотвращения — зачем он пишет?
Ведь естественная реакция всякого нормального человека была бы — нет, не забыть, но как-то, что ли, смягчить. Отыскать утешения. Придумать душеспасительный вывод: люди, мол, в любых условиях способны сохранить в себе человеческое и даже нравственно усовершенствоваться вследствие пеллагры. Закопать глубоко в память, в область сомнительного и как бы не бывшего все самое мучительное и физиологичное, то, о чем неприлично говорить и думать, все, чего в двадцатом веке быть не может… Шаламов поступает в точности наоборот. Он говорит с читателем о самом чудовищном, отвергая милосердные свойства памяти — анестезию, избирательность. Чего ради? Или в этом заключается единственная возможная аутотерапия — рассказать, выбросить из себя и тем избавиться?
Это тоже верно, потому что Шаламов сам о себе сказал: я, мол, человек злопамятный, добро помню сто лет, зло — двести. Такие люди, пока не отомстят, жить не могут. А Шаламов мечтал о мести, об этом — едва ли не сильнейшие его стихи: выпить из черепа врага, а там и умереть не жалко. Стало быть, он этими рассказами мстит. Но кому именно?