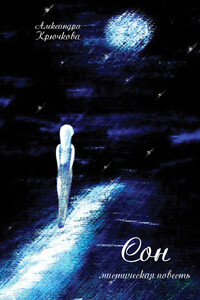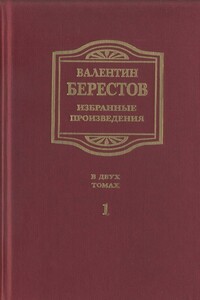Статьи из журнала «GQ» | страница 56
Работать в России — значит быть встроенным в официальную систему, служить ее винтиком, поддерживать ее фасад; именно поэтому советская власть так боролась с тунеядцами и требовала ото всех хоть куда-нибудь устроиться, хоть что-нибудь делать… и лучше бы кое-как, спустя рукава… Вы спросите: а как же кампании по борьбе за производительность, как же поощрение ударничества? А я вам напомню Андре Жида, который встретился с ударниками и заметил, что такую норму легко делает средний западный рабочий, не считая ее чем-то чрезвычайным. Тех, кто реально любил свое дело и делал его профессионально, тут же обвиняли в частнособственнических инстинктах, провозглашали выскочкой — это как раз не советское. Это — русское, родное, национальное, абсолютно выверенная форма встраивания в мир: дела не делай, от дела не бегай. То есть одинаково неприемлемы и тунеядство — в смысле независимое существование, — и подлинное ударничество, которое в глазах масс приравнивается к коллаборационизму. Не надо очень-то впахивать «на них»: хочешь жни, а хочешь куй — все равно получишь… Русский modus vivendi — числиться и бездействовать. Но непременно числиться: знаю по себе, предложи мне кто-нибудь на выбор работу за три копейки или статус безработного с многотысячным пособием — я не глядя выбрал бы первое. На жизнь наработаем отхожими промыслами, съедим отложенное, вырастим дачный урожай — но любой ценой хотим числиться на работе, отлично понимая, что ни нам, ни человечеству она особо не нужна.
Это одна из взаимных договоренностей, тайных конвенций государства и общества: «вы делаете вид, что работаете, — мы делаем вид, что платим». Застой потому и вспоминается как золотой век, что Россия в это время достигла подлинной симфонии между русским и советским, была больше всего похожа на себя, какой ее знает мир и чувствует уроженец. На кухнях говорили все, что думали. Над газетами потешались. Заведомую ложь выдавали на-гора без комплексов и с твердым пониманием, что и для всех остальных она столь же очевидна, как для говорящего. Но пространство частной жизни было богато, разнообразно и культурно.
В новом российском кризисе мы получим на выходе прежнюю конструкцию: вспомним, ведь и в девяностые безработица оказалась далеко не столь массовой, сколь ожидалась. Миллионы продолжали работать на нерентабельных предприятиях, выпуская никому не нужную продукцию. Чем увольнять человека, превращая его в потенциального борца, потому что безделье злит сильнее всякого угнетения, — проще превратить его в бесплатного труженика, у которого нет низменной материальной заинтересованности, но есть, простите за выражение, институциональная. Он встроен, на месте, при деле; и это лучше, чем героически впахивать за настоящую зарплату. Потому что подлинная жизнь для русского человека никогда не ассоциировалась с работой: русские презирают низкую, прагматическую пользу, зато неделями вырезать деревянный часовой механизм без единого гвоздя — это пожалуйста.