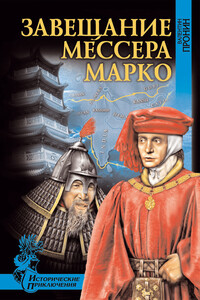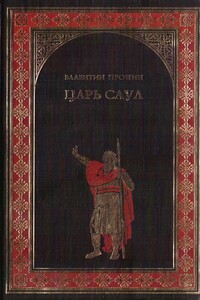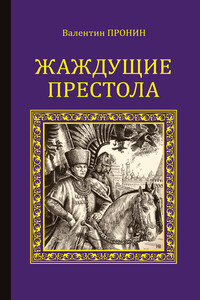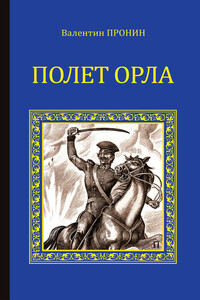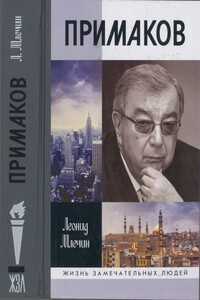Катулл | страница 30
И все-таки Рим пока оставался республиканским, в нем еще жили граждане, открыто выражавшие свое возмущение триумвиратом. Но их выступления не находили поддержки ни у плебса, довольного щедростью Цезаря, ни у всадничества, отколовшегося от сената и поощрявшего своего представителя Красса.
В один из дней середины февраля Валерий Катон пригласил друзей для празднования Фераллий — поминания умерших.
Гости проходили в атрий[82], где был установлен жертвенник со статуями богов и чернели ветви погребального кипариса[83]. Курился ладан, киннамон и бальзам[84]. Ароматный дымок бледнел и рассеивался в квадрате яркого солнечного света, проникавшего через отверстие в крыше. Взяв на себя обязанность жреца, хозяин прочитал положенные молитвы и в скорбных выражениях вспомнил общих знакомых, уже оказавшихся во власти беспощадного Орка[85]. Затем Катон с озабоченным выражением лица направился в триклиний. Гости молча последовали за ним.
Обед в триклинии, согретом переносными жаровнями и украшенном пахучей туей, был, как всегда, обилен и прост. Все знали: поминание усопших только повод, чтобы сообща обсудить тревожные события, происходящие в Риме.
Гелланик отослал служанок и мальчика-виночерпия. Катон произнес значительно:
— Сейчас следует вспомнить достославных ревнителей республики Курия, Фабриция и старого Катона[86], как образцы истинной римской добродетели.
— Еще своевременнее воззвать к душам тираноубийц Гармодия и Аристогитона[87]… — сказал Целий Руф и твердо сжал красивые губы.
Гелланик наполнил чаши. Катон исподволь разглядывал обычно пылких и жизнерадостных друзей-поэтов. Пили сегодня без воодушевления, общее настроение не располагало к веселью. Кроме того, большинство еще не пришло в себя после излишеств, которым они предавались накануне.
Тицид сидел, опустив голову, его коричневое лицо с остроконечной бородкой казалось совсем египетским.
У Цинны опухли глаза, и вокруг щек появилась нездоровая одутловатость. Стройный Руф, с типично римскими, решительными и правильными чертами лица, сердито хмурился. Он разделял мнение своего учителя Цицерона о недопустимости противодействия сенату. Руф был полон бесстрашного негодования и томился бездействием. Отсутствовал Меммий, он находился сейчас в клокочущей пучине политических страстей. Странно, что неуемное тщеславие, распутство и расточительство не мешают ему оставаться тонким ценителем поэзии и самому сочинять порой недурные стихи. Пустовало и место историка Непота. Фурий и Аврелий угрюмо нахохлились, их полудетские лица портили ранние морщины, как на изображениях развратных фавнов. До неприличия растолстевший кутила Аллий вполголоса говорил что-то неподвижно нависшему над ним, притворно-сонному Вару. Выражение лица у адвоката показалось Катону несколько двусмысленным. Скорее всего, сын кремонского башмачника совещался со своим адвокатским практицизмом по поводу пользы, которую можно извлечь для себя из сложившихся в правительстве опасных перипетий. В часы досуга он пишет изящные элегии, совсем непохожие на его щеголяние простонародной грубостью.