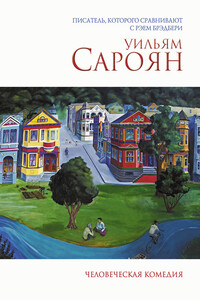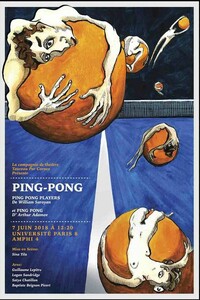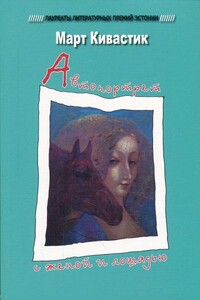Меня зовут Арам | страница 62
— Да, сэр.
— На обратном пути от ресторана к своему месту ты пройдешь через вагон для курящих. Там будет в самом разгаре карточная игра. Игроки, трое немолодых людей с дорогими на вид перстнями на пальцах, любезно поздороваются с тобой, и один из них пригласит присоединиться к ним. Скажи им, что не понимаешь по-английски…
— Да, сэр.
— Это все.
— Большое спасибо, — сказал мой дядя.
— Вот что еще, — сказал старик. — Укладываясь ночью спать, вынь из кармана деньги и спрячь их в ботинок. Положи ботинок под подушку и не поднимай с нее головы и глаз не смыкай всю ночь.
— Да, сэр.
— Все.
Старик ушел, а на другой день мой дядя Мелик сел в поезд и поехал через всю Америку в Нью-Йорк. Двое в униформе оказались не мошенниками, молодой человек с дурманящими сигаретами не явился совсем, во время обеда за столом против него не оказалось прелестной молодой женщины и в курительной не было никакой карточной игры в разгаре. Мой дядя спрятал деньги в ботинок, положил его под подушку и не спал до утра, но на вторую ночь нарушил весь ритуал.
На следующий день он сам предложил сигарету какому-то юноше, и тот ее принял. Во время обеда он лез из кожи вон, чтобы сесть за один столик с молоденькой женщиной. Он играл в курительной в покер и задолго до прибытия поезда в Нью-Йорк знал в вагоне всех и все знали его. А раз, когда поезд проезжал через Огайо, мой дядя, молодой человек, принявший от него сигарету, и две юных леди, едущие в Вассар, составили квартет и запели «Уобошский блюз».
Путешествие было весьма приятным.
Когда мой дядя Мелик вернулся из Нью-Йорка, его старый дядя Каро снова зашел к нему.
— По-моему, ты превосходно выглядишь, — сказал он. — Ты следовал моим указаниям?
— Да сэр, — отвечал дядя.
Старик вперил свой взгляд в пространство:
— Я рад, что хоть кому-то мой опыт принес пользу.
Бедный опаленный араб
У моего дяди Хосрова, человека буйного нрава, который очень сильно тосковал по родине, был одно время друг — маленький человек из нашей страны, тихий и неподвижный, как камень. Он выражал свою тоску и печаль только тем, что стряхивал пыль с колен и молчал.
Этот человек был араб по имени Халил. Ростом с восьмилетнего мальчика, но с предлинными усами, как у моего дяди Хосрова. Лет ему было, наверное, шестьдесят с небольшим. Усы усами, но душой он был скорее дитя, чем мужчина. И глаза у него были, как у ребенка, только в них отражались годы воспоминаний, долгие годы разлуки со всем глубоко любимым: с родной землей, со своим отцом, с матерью, братом, лошадью или еще чем-нибудь. Волосы у него были мягкие и густые и такие же черные, как и в юности, и разделены пробором с левой стороны — точно так, как у маленьких мальчиков, совсем еще недавно попавших в Америку со старой родины. Голова у него была бы совсем как у школьника, если бы только не усы; да и фигура мальчишеская, только плечи широковаты. По-английски он говорить не умел, немножко говорил по-турецки, знал несколько слов по-курдски и несколько по-армянски, а вообще-то он почти не разговаривал. Когда же он произносил какое-нибудь словечко, казалось, будто голос исходит не из его груди, а откуда-то из недр старой родины. Говорил он так, будто сожалел, что приходится говорить, будто мучительно было человеку силиться выразить то, что все равно никак невозможно выразить, и будто все, что он не сказал бы, только прибавило бы скорби в его душе.