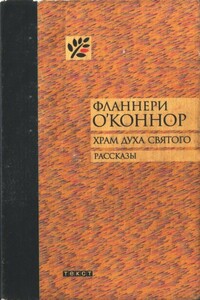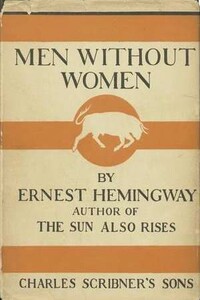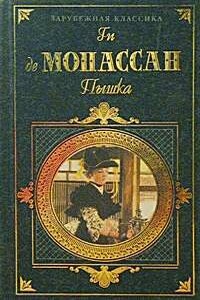Царство небесное силою берется | страница 47
Глаза яростно вспыхнули на его хрупком лице. Он почувствовал новый прилив, сил.
— Он мертвый, — сказал мальчик. — Мертвее не бывает. Только пепел остался. Даже креста над ним нет. На то, что осталось, и птицы-то не польстятся, а кости растащат собаки. Вот такой он мертвый.
Учитель поморщился, но тут же снова разулыбался. Он крепко держал Таруотера за руки, всматриваясь ему в лицо, как будто перед ним уже забрезжил вариант решения, изысканно точный и безупречно грамотный.
— Какая великолепная ирония, — пробормотал он, — какая великолепная ирония в том, что именно ты это сделал — и именно так. Он получил по заслугам.
Мальчик раздулся от гордости:
— Я сделал то, что должен был сделать.
— Он уродовал все, за что брался, — сказал учитель. — Он прожил долгую жизнь, лишенную всякого смысла, и совершил великую несправедливость по отношению к тебе. Счастье, что он наконец умер. Ты мог иметь все и не имел ничего. Но теперь все можно исправить. Теперь у тебя есть человек, который может понять тебя — и помочь. — Глаза его светились от удовольствия. — Еще не поздно, я еще смогу сделать из тебя нормального человека.
Лицо у мальчика потемнело. Выражение делалось все более и более жестким, пока Таруотер не почувствовал, что за этой крепостной стеной никто не сможет разглядеть его истинных мыслей; но учитель не заметил перемен. Сам по себе мальчик, который стоял сейчас перед ним, не имел никакого значения; учитель смотрел сквозь него и видел образ, уже давно и во всех деталях сложившийся у него в голове.
— Мы с тобой наверстаем упущенное время, — сказал он. — Я направлю тебя по верному пути.
Таруотер на него не смотрел. Его шея как-то вдруг дернулась вперед, и он стал напряженно всматриваться куда-то поверх учительского плеча. Он услышал смутный звук тяжелого дыхания, и звук этот был ему знаком. Это дыхание казалось ближе, чем биение собственного сердца. Глаза у него расширились, и в них в ожидании неотвратимого видения открылась потайная дверца.
В гостиную неуклюже вошел маленький светловолосый мальчик, остановился и стал пристально глядеть на чужака. На ребенке была синяя пижама, куртка заправлена в штаны, натянутые чуть не до подмышек. Штаны держались на шлейке, обмотанной, как лошадиная упряжь, вокруг груди, а потом через шею. Глаза были посажены как-то слишком глубоко, а скулы были чуть ниже, чем следовало бы. Он стоял в дальнем конце комнаты, такой дремучий и древний, как будто пробыл ребенком целую вечность.