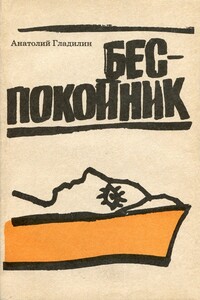Улица генералов: Попытка мемуаров | страница 85
Еще несколько слов о книге. В уста моего молодого героя я вкладывал все, что думал. То есть я увлекся публицистикой, и публицистику я писал наотмашь: «Мы росли идиотами, мы верили газетам, но даже газеты не могли врать одно и то же». Герой был художник и, естественно, не оставлял камня на камне от соцреализма. Теперь бы его рассуждения показались наивными, но не забывайте — 62-й год только начинался. И мне было решительно плевать, напечатают книгу или нет.
Поправка. В процессе работы мне и вправду было решительно плевать, напечатают или нет. Но когда книга была готова, тут, сами понимаете, я задумался. Наверно, мне хотелось, чтобы она увидела свет. Из-за отца. Раньше я только догадывался, а теперь окончательно убедился, что отец был более способным человеком, чем я. Судите сами: крестьянский парнишка, с образованием четырехклассным церковно-приходской школы, после страшного ранения он закончил рабфак, университет, обладал удивительной памятью, работоспособностью, дослужился до замнаркома, потом, обидевшись на кого-то, бросил партийную карьеру и до конца жизни работал по своей основной специальности — адвокатом. Вы скажете, дескать, знаем, благодаря чему в те времена делали карьеру… Хорошо, в этом вопросе я избегаю полемики и расскажу лишь такую сценку. В 85-м году я по командировке приехал в Вашингтон. Прихожу в вашингтонское бюро радио «Свобода». Незнакомая женщина, увидев меня в коридоре, всплескивает руками и говорит: «Не может быть! Одно лицо! Вы сын Тихона Илларионовича Гладилина?» И час она мне рассказывает, каким замечательным человеком был мой отец. Женщина эта оказалась Диной Каминской, известной правозащитницей и московским адвокатом.
Извините за отступление от основного текста. Впрочем, никогда не знаешь, что получится интереснее. Короче, отнес я повесть в журнал «Юность», и там, как ни странно, ее решили печатать. Но прежде, чем дать на чтение Борису Полевому, внесли некоторые правки, и в первую очередь потребовали изменить название и убрать эпиграф. Иначе, мол, Полевой сразу озвереет: ведь Мандельштам был еще запрещен. Я согласился. Жалко названия, однако повесть важнее. И потом, я думал, что Полевой все равно ее зарежет. Опять чудеса! Повесть Полевому понравилась. Конфиденциально мне объяснили, в чем дело. У правоверного литературно-гэ-бэшного редактора «Юности» были какие-то свои счеты с руководством Академии художеств. И вот моими руками он вознамерился залепить им по роже. Ну, и оттепель еще стояла на дворе, и никто толком не понимал, куда все повернется. (Помнится — очередное отступление! — совершенно неожиданно группу молодых писателей пригласила к себе Фурцева. В кабинет к министру культуры я явился в промасленной шоферской куртке. Ничего, Фурцеву это не шокировало — милостиво улыбалась.) Да, забыл отметить: перед подписанием рукописи в набор Полевой по ней тоже прошелся. «Старик, — сказал Борис Николаич, — не надо дразнить гусей. Вы ударились в политику. Зачем? Сгладим углы». Что делать? Ведь я не ждал не гадал, что повесть опубликуют, а тут — последняя инстанция. Велик соблазн!