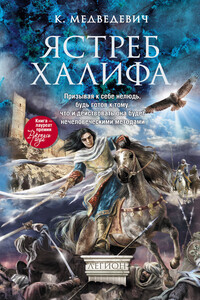Сторож брату своему | страница 25
— Нет, а почему вы кривитесь? — прижал уши Акио. — Мне приказали — я сделал! Вы бы по-другому поступили? И вообще, у этих смертных нет никакого понятия о приличиях! Преступница вполне могла бы покончить с собой! Я ей и так и эдак пытался объяснить: мол, простите, но сопротивление бесполезно, лучше приготовьтесь достойно принять смерть! А она? Орала и бегала от меня!
— Акио, — хихикая, встрял джинн, — она же не понимала по-аураннски!
— Это я не принял во внимание, — нахмурился сумеречник. — В общем, ее схватили евнухи, но она так дергалась, что я уж думал — все, сейчас вместе с головой чью-то руку отрублю, знаете, так часто бывает, если кто-то не желает, чтобы ему помогли умереть…
— Хуже всех мне, — неожиданно подвел итог Иорвет.
— С чего бы это? — хором отозвались остальные.
— Они теперь всю ночь над этими головами будут импровизировать стихи, — зло выдавил лаонец. — На целую антологию наимпровизируют, уроды поганые. А потом будут повторять на каждой попойке: «Эти бейты я написал в знаменательную ночь, когда эмир верующих опустил меч возмездия на шеи нечестивых, забывших заповеди! Вот что я произнес над головами двух красавиц!» А я? Я же все понимаю!
— А я вот послушаю, — лениво заваливаясь на бок, протянул кот. — У меня дядя на Мухсине живет — знаменитый поэт, между прочим! Послушаю — да и пошлю ему последние стихи Абу Нуваса…
Сумеречники переглянулись, пожали плечами и посмотрели в сад.
Абу Нувас как раз заканчивал читать бейты, показывая на поднос с золотящимися в свете ламп, посверкивающими украшениями головами.
Баб-аз-Захаб,
павильон Совершенство Хайзуран,
два дня спустя
Тягучие сумерки осеннего рассвета холодили подошвы ног сквозь тонкие чулки и туфли, забирались в ворот кафтана, оседали ледяным паром на бородке. Мухаммад аль-Амин проклинал своего благочестивого деда, оставившего в назидание потомкам труд об обязанностях халифа. «Наставление сыну» его заставили заучить наизусть еще в детстве: «эмир верующих встает до рассвета, принимает теплую ванну и приступает к утренней молитве; затем, не теряя времени, он идет к советникам и занимается делами, и лишь рассмотрев все ходатайства и бумаги, садится завтракать…»
«Чтоб вам всем треснуть», раскачивалась в гудящей больной голове мстительная мысль.
Предыдущей ночью они с Кавсаром и Али ибн Исой сорвали флажок в лавке старого Цимыня у ворот Шаркии — и арбузного вина оказалось слишком много даже для дюжины — или скольких они там угощали — собутыльников. Бродяги размахивали шляпами из пальмовых листьев, прославляя щедрость эмира верующих, размалеванные певички — в этом квартале девка прилагалась к бутыли за дирхем — хихикали и лезли им ладонями под набедренные повязки. А Кавсар — о изменник! ты еще поплатишься! — сосался с какой-то шлюшкой, видно, думая, что он, Мухаммад, настолько пьян, что ничего уже не видит. С горя он выпил еще одну меру вина и впрямь перестал что-либо видеть. Заснул аль-Амин ближе к полудню, проснулся ближе к середине ночи. Похмелье колотило в затылок, как медник в котел, во рту стоял омерзительный привкус рвоты, который не могли смыть ни вода, ни лимонный шербет. Ему бы кутраббульского и еще поспать — так нет же, «эмир верующих встает до рассвета», чтоб им всем треснуть, святошам с постными рожами…