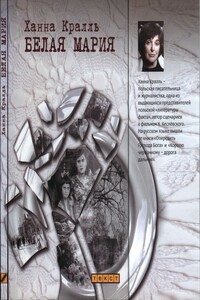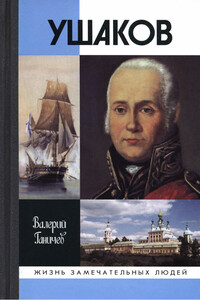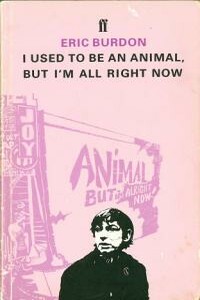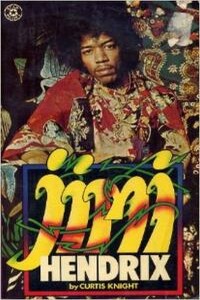Опередить Господа Бога | страница 6
Здесь его раздавали, на этом месте. Продолговатые румяные буханки ситного.
И знаешь что?
Люди шли организованно, четверками — шли за этим хлебом, а потом в вагон. Желающих было столько, что выстраивались очереди, в Треблинку приходилось отправлять уже по два эшелона в день — и то все добровольцы не помещались.
Ну, а мы — мы, конечно, знали.
В сорок втором году мы послали одного нашего товарища, Зигмунта, разузнать, что происходит с эшелонами. Он поехал с железнодорожниками с Гданьского вокзала. В Соколове ему сказали, что здесь путь раздваивается, одна ветка идет в Треблинку, туда каждый день отправляется товарный поезд, забитый людьми, и возвращается порожняком; продовольствия не подвозят.
Зигмунт вернулся в гетто, мы написали обо всем в нашей газете — а никто не поверил. «Вы что, с ума сошли? — говорили нам, когда мы пытались доказать, что их везут не на работы. — Кто ж станет нас посылать на смерть с хлебом? Столько хлеба переводить зря?!»
Акция длилась с двадцать второго июля по восьмое сентября 1942 года, шесть недель. Все эти шесть недель я простоял у ворот. Здесь, на этом месте. Проводил на эту площадь четыреста тысяч человек. Видел тот же самый бетонный столбик, который сейчас видишь ты.
В этом техникуме помещалась наша больница. Ее ликвидировали восьмого сентября, в последний день акции. Наверху было несколько детских палат; когда немцы вошли на первый этаж, врач-женщина успела дать детям яд.
Нет, ты тоже ничегошеньки не можешь понять. Ведь она их спасла от газовой камеры, это было просто чудо, люди считали ее героиней.
Больные лежали на полу в ожидании погрузки в вагон, а медсестры отыскивали в толпе своих отцов и матерей и впрыскивали им яд. Они берегли яд для самых близких, она же — эта врачиха — свой цианистый калий отдала чужим детям!
Один только человек мог сказать во всеуслышание правду: Черняков[7]. Ему бы поверили. Но он покончил с собой.
Нехорошо поступил Черняков: умереть следовало с треском. Тогда это было очень нужно — умереть, призвав перед тем людей к борьбе.
Собственно, только за это мы к нему в претензии.
— «Мы»?
— Я и мои друзья. Те, кого нет в живых. За то, что он распорядился своей смертью как своим личным делом.
Мы знали, что умирать надо публично, на глазах у всего мира.
Разные у нас возникали идеи. Давид говорил нужно броситься на стены всем, кто только оставался в гетто, — прорваться на арийскую сторону, усесться на валах Цитадели, рядами, друг над другом, и ждать, покуда гестаповцы расставят вокруг нас пулеметы и расстреляют поочередно, ряд за рядом.