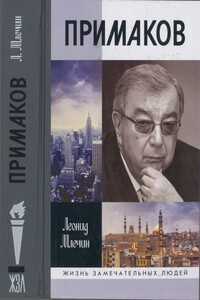Дай оглянусь, или Путешествия в сапогах-тихоходах | страница 14
Мелко стучали колеса по огромному заснеженному пространству, и Алексею, начавшему забываться из-за суеты, усталости и множества разных впечатлений последних месяцев, вдруг почудился широкий белый холст, медленно ползущий под иголку стрекочущей швейной машины. За машиной сидела его мать и подправляла пальцами холст, волнами складывающийся у нее на коленях. Кто-то сказал внятно: «Алексей!» — и он очнулся. Еще раз глянул на разлапую ель, уже в который раз показывавшуюся в разрыве сетки, и вернулся в свой угол.
Окно потемнело, на стене и потолке играли огоньки от печурки, низ трубы раскалился. В вагоне молчали.
Николай тоже угомонился, лежал, заложив за голову руки. Лейтенант, так же как Алексей, вжался в угол — темные впадины глазниц занимали много места на худом мальчишечьем лице.
Даже после двух месяцев подготовки, после того, как были повторены строевые приемы и изучены оружие и варианты боя: «В случае, если противник...», даже после того, как враг был назван противником,— война не стала чем-то реальным, легко представляемым, она оставалась грозной и неумолимой силой, непонятной, как стихия, слепой и беспощадной, как огонь.
Война виделась Алексею заревом. Заревом к которому они приближались. На его родине часты пожары; высоким пламенем горят деревянные дома, и тогда над пожаром загорается все небо. Зарево видно издалека — красная и багровая стена до самых звезд; и они приближаются к этой стене, а она медленно движется к ним по белому холсту, и холст горит, чернеет, обугливается и сворачивается, а люди, тонкие мечущиеся фигурки, крохотные, как муравьи, рядом с гигантским пламенем, гоже сгорают, и ничего от них не остается.
— Николай!— позвал вдруг Алексей, словно испугавшись чего-то.— Коля!— Позвал и тут же пожалел и захотел, чтобы тот не отозвался: Алексей не знал, что спросить, о чем говорить — так много нахлынуло всего, что не имеет формы слова, речи, даже вопроса. И поэтому, когда Николай поднял голову, смятенно сказал ему:— А... это... мы консервы давай с моей банки начнем, а то ведь если обе откроем, попортиться могут...
Николай, ждавший другого вопроса, уронил голову.
—
Давай с твоей...—Но, оторванный от своих дум, снова повернулся к Алексею, заворочался, лег на бок.
—
Слышь, Леха, твой-то ревел у парома! И моя Ритка разревелась...— Он произнес это с той гордостью, которая отличает молодого отца, хотя Ритке его было уже семь.
—
Мой тоже,— ответил Алексей, поскорее стараясь вспомнить лицо сына, и вспомнил уже, но сына быстро застлал падающий в реку снег; оказалось, что память почему-то обратила внимание на снег, задержала его у себя, и каждый раз, когда нужно было вспомнить необходимое, опускала перед ним белую завесу.