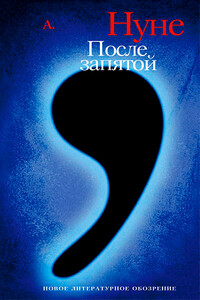Что я любил | страница 144
В небе над Вашингтон-сквер стояла луна. Было еще не так поздно. Лунный серп, перечеркнутый клочковатым облаком, казался почти близнецом нарисованного месяца с одной ранней картины Гойи, которую я рассматривал буквально несколько часов назад. Это была картина из "ведьминской" серии. На ней ведьмы кольцом обступали Пана, изображенного в обличье козла, и, несмотря на свою омерзительную свиту, сам языческий бог, пустоглазый и придурковатый, производил впечатление почти безобидное. Две ведьмы подносили ему младенцев, одного изнуренного, серого, и другого — пухленького и розового. Пан, судя по тому, как развернуто его копыто, предпочел того, что поупитанней. Переходя улицу, я вспомнил о ведьме из пряничного домика и о жалобах Вайолет на материнский приворот. Интересно, что же она хотела сказать про Люсиль? И почему Марк молчит о комнате? В чем тут дело? Может, спросить его? Но в самом вопросе: "Почему ты ни слова не сказал матери о комнате Мэтью?" — уже заключался какой-то абсурд. Когда я повернул на Грин-стрит и направился по тротуару прямо к дому, я ясно ощущал, что настроение у меня внезапно испортилось. Со мною вместе домой шла тоска.
В последующие месяцы ночная жизнь Марка становилась все активнее. Я слышал его шаги на лестнице, когда, прыгая через две ступеньки, он мчался вниз навстречу вечеру. Там, внизу, смеялись и визжали девчонки, а парни орали и ругались грубыми мужскими голосами. Харпо пришлось потесниться. Теперь его место в душе Марка заняли модные диджеи и музыка техно. Штаны, которые он носил, становились все шире и шире, но с его гладкого юношеского лица по-прежнему не сходило выражение детского изумления, и он, как и раньше, тянулся ко мне. Когда мы разговаривали, он либо подпирал кухонную стену, вертя в руках какой-нибудь шпатель, либо в буквальном смысле болтался в дверях, ухватившись пальцами за притолоку и свесив ноги вниз. Странно, но я практически не помню содержания наших бесед. Разговор Марка был банален и незатейлив, но всегда виртуозно подан. Именно это и сохранилось в памяти лучше всего — серьезный, печальный голос, взрывы хохота и расслабленные движения длинного тела.
Но одним январским субботним утром в наших отношениях внезапно наметился перелом, для меня совершенно неожиданный. Я сидел на кухне с газетой и чашкой кофе, и вдруг откуда-то из дальней комнаты донесся тихий звук, похожий на свист. Я застыл, вслушиваясь. Звук раздался снова. Он шел из комнаты Мэтью. Я отворил дверь и увидел Марка, распростертого на кровати. Он крепко спал, выводя во сне рулады носом. На нем была футболка, которую, похоже, разорвали на две части, а потом обе половинки соединили при помощи доброй сотни английских булавок. В оставшейся прорехе сквозила голая кожа. Широченные штаны были спущены чуть не до колен, открывая трусы с резинкой, на которой можно было прочитать название фирмы-изготовителя. Под бейками трусов, в паху, курчавились волосы, и я вдруг впервые понял, что передо мной мужчина, и мужчина вполне взрослый — по крайней мере, с чисто физиологической точки зрения. Сам не знаю почему, но это открытие привело меня в ужас.