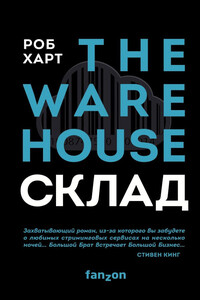Заговор по-венециански | страница 143
— Мне черный кофе, — просит карабинер.
Capitolo XLI
Остров Сан-Джорджио, Венеция
1777 год
При неверном желто-оранжевом пламени свечи Томмазо Фрасколи, обуздав свои чувства, читает письмо, которое мать оставила ему больше двадцати лет назад.
Монастырское обучение многое преподало, и уже по сорту бумаги, чернил, по типу кончика пера и даже по почерку юный монах многое узнает об авторе послания.
Бумага не из дешевых. Это кремовый пергамент, на котором составляют документы вроде тех, что лежат, перевязанные красной шелковой лентой, на большом столе у аббата.
Вторая деталь, поразившая Томмазо, — почерк. Он размашистый, резкий и местами витиеватый; над и под воображаемой — и строго соблюденной — разделительной чертой красуются изящные петли. Стилистически шрифт определить трудно. Конкретно литеры «b», «d», «h» и «l» выведены очень изящно и напоминают курсивную бастарду,[36] изобретенную в шестнадцатом веке. Впрочем, кое-где манерность письма наводит на мысль о злоупотреблении канчеллареской.[37]
Томмазо понимает, что формой письма он увлекся гораздо больше, чем содержанием. Приходится смирить любопытство и отложить изучение натуры автора.
Наклонив пергамент ближе к свечке, Томмазо разглядывает черные, как почва, чернильные линии, силу нажима тонкого, но гибкого и крепкого кончика пера. Рука автора — определенно рука человека образованного. Писала не обыкновенная портовая шлюха. Должно быть, мать Томмазо из воспитанных куртизанок, которые, по слухам, музицируют подобно ангелам и рисуют не хуже Каналетто. Впрочем, он дурачит себя, не иначе. Желает думать о матери исключительно лучшее.
Разгладив пергамент на маленьком столике, где лежит Библия и стоит свеча, монах приступает к чтению:
Мой дорогой сын!
Я просила добрых монахов окрестить тебя Томмазо. Это не имя твоего отца, оно из моих грез. Так я всегда мечтала назвать сына.
Сейчас, когда я пишу письмо, тебе всего два месяца от роду. К тому времени, как ты начнешь ползать — не говоря уже о том, когда ты произнесешь первое слово, — меня не будет в живых. Но если бы я не заразилась болезнью, которая, как говорят врачи, убьет меня столь же верно, сколь и чума — многих других, то я ни за что бы тебя не оставила.
На губах твоих еще не обсохло мое молоко, а лобик все еще хранит тепло моих поцелуев, когда я передаю тебя на руки святым братьям. Верь мне, это хорошие люди. Моя любовь навсегда пребудет с тобой.
Уверена, разлука причинит тебе боль. Однако так я хотя бы знаю: ты в надежных руках. Оставь я тебя при себе и дожидайся, пока смерть настигнет меня, то что бы тогда случилось с тобой?