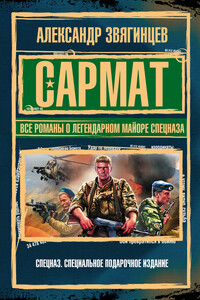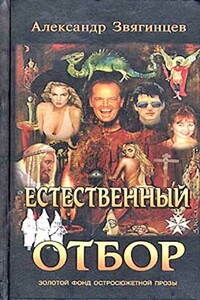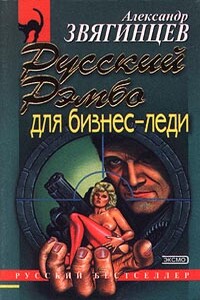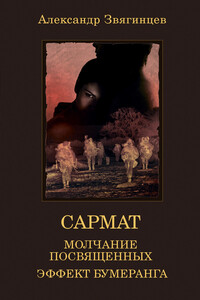Роковая Фемида. Драматические судьбы знаменитых российских юристов | страница 133
Переполнила же чашу терпения Николая II «несговорчивость» генерал-прокурора по делу И. Ф. Манасевича-Мануйлова. Оно возникло в августе 1916 года и было довольно заурядным — шантаж банка. Давление в связи с этим делом шло и на министров внутренних дел А. А. Хвостова и А. Д. Протопопова, и на генерал-прокурора А. А. Макарова, причем настолько сильное, что последний вынужден был даже публично заявить, что примет меры к тому, чтобы «не относящиеся к существу обвинения Манасевича-Мануйлова факты были отброшены» и чтобы «предметом судебного разбирательства» было только его дело. Понятно, что это не устраивало тех, кто стоял за спиной мошенника.
Дело было назначено к слушанию на 15 декабря, накануне же под вечер Манасевич-Мануйлов явился к следователю, заявив, что уже состоялось высочайшее повеление о прекращении дела, о чем ему Распутин якобы сообщил телеграммой из Ставки. Встревоженный следователь сразу поставил в известность об этом разговоре прокурора судебной палаты Завадского. На следующий день прокурор узнал, что действительно генерал-прокурор
А. А. Макаров получил телеграмму от императора: «Повелеваю прекратить дело Манасевича-Мануйлова, не доводя до суда».
20 декабря 1916 года появился высочайший указ об освобождении А. А. Макарова от должности «согласно прошению» (которого он добровольно не подавал), но с оставлением членом Государственного совета и сенатором. 1 января 1917 года Макаров получил чин действительного тайного советника, а 4 января возглавил Особое присутствие для предварительного рассмотрения всеподданнейших жалоб на решения департаментов Правительствующего сената. Управляющим Министерством юстиции был поставлен сенатор Н. А. Добровольский.
После Февральской революции А. А. Макаров, подобно другим бывшим министрам царского правительства, был арестован. Его неоднократно допрашивали в Чрезвычайной следственной комиссии. Товарищ председателя этой комиссии С. В. Завадский признавался, что из всех узников Керенского были два министра, Макаров и Маклаков, при допросе которых он отказался присутствовать и что его угнетали разговоры в президиуме комиссии о предании Макарова суду. Он объяснял это тем, что за пять месяцев совместной деятельности «увидел в нем, правда, человека, несомненно, склонного к формальности, но умеющего много работать, спокойно и внимательно прислушивающегося к чужим мнениям и чужим возражениям, уважающего суд и не останавливающегося перед опасностью потери министерского поста из-за отстаивания того, что ему представляется законным и должным». Макарова долго держали в Петропавловской крепости. Ходатайство его об освобождении по состоянию здоровья, а также прошение жены Елены Павловны о переводе мужа в «Кресты» оставались без удовлетворения. Лишь только 27 сентября 1917 года следователь П. Г. Соколов, допросив Макарова в очередной раз, вынес постановление об изменении ему меры пресечения на «подписку о неотлучке из места постоянного жительства в Петрограде».