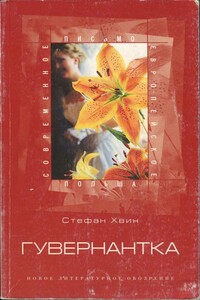Ханеман | страница 54
А потом, около шести, когда в глубине квартала начинали бить колокола Собора, к которым присоединялись, всегда чуть запаздывая, колокола костела цистерцианцев, и этот отдаленный звон увязал в густой листве лип, груш и яблонь, заглушая уже стихающий уличный гомон, перед глазами вновь возникали знакомые места, дома, комнаты, лица, но душу не трогали картины города, которого больше нет, — память будто лишь небрежно тасовала побуревшие фотографии перед тем, как швырнуть в огонь. «Нельзя так жить!» — вдруг возвращались слова Анны. Но сейчас — не то что раньше! — слова эти не могли его ранить. А почему, собственно, нельзя так жить? Ханеман откладывал книжку, которую — раскрытой — держал на коленях, и, полузакрыв глаза, прислушиваясь к шороху пластинчатых листьев березы, ощущая под пальцами шершавую зелень матерчатого переплета, позволял вовлечь себя в эту игру образов прошлого, очищенного от всего, что причиняет боль. Теперь, когда пятнышки солнечного света и тени веток все медленнее колыхались на фасаде дома Биренштайнов, не только он, но и все вокруг застывало в сонной полужизни, будто раздумывая, что избрать: томительные желания или смерть. И даже — так ему казалось, — даже сердце замедляло свой безостановочный бег. Звуки, шорохи, все прекрасное и чуждое поселялось в душе лишь на миг, ибо память, без труда избавляясь от навязанной ей — как ему представлялось — докучливой обязанности хранить увиденное и услышанное, не замутняла чистоты впечатлений. Он ощущал в себе пустоту, но то не была пустота, вызывающая страх, то была добрая пустота, когда ничто не отгораживает нас от сути вещей.
И тогда, слегка ошеломленный этой свободой, он машинально прикасался к стоящей на письменном столе плоской бронзовой вазе, украшенной двумя дельфинами (на подставке чернели буковки «1909 Palast Kaffee»), брал в руки фарфоровую шкатулочку со сценой в саду на крышке, переставлял из-под лампы с надписью «Alsace-Lorraine»[28] на другой конец стола светлую фигурку пастушки с ягненком, смотрел, не удастся ли залепить трещину в гипсовом рыбаке с большой чешуйчатой рыбой под мышкой. Все эти претенциозные безделушки, поблескивавшие на полках буфета и на этажерке красного дерева, отнюдь не были для него крохами уже не существующего города, в который ему бы хотелось вернуться. Когда-то он посмеивался, наблюдая, как мать загромождает гостиную синим и позолоченным фарфором, как населяет полочки ореховой горки роем китайских танцовщиков в стиле рококо, майоликовыми японками, персами в доспехах из папье-маше, как расставляет за стеклом пирамиды чашек Розенталя и Верфеля. Ему не хотелось даже смотреть на кокетливых пастушек с золотисто-кудрявыми ягнятами, на воинственные позы самураев из черного дерева и самодовольные ухмылки гипсовых рыбаков, похваляющихся крупными рыбинами с золотой чешуей.