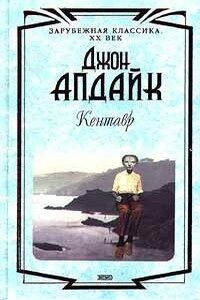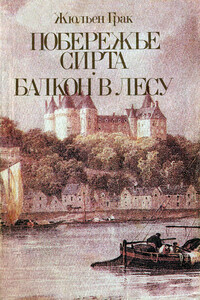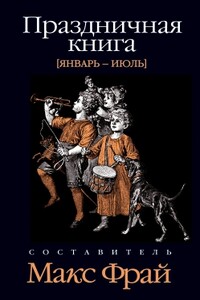Духов день | страница 91
Уводит навсегда торговцев и каторжан стальная Троицкая дорога под рассыпными российскими косыми дождями над парными пажитями, над осиновыми перекрестками - росстанями.
Тесна Москва, ни жива, ни мертва, спустя рукава, вдовая невеста, на реке-Смородине обноски стирает под Каменным мостом, вальком лупит, бьет с носка. Тесна Москва, но прекрасна, как оставить ее, посоветуй.
И в преисподней настигнет Москва многоглагольным колоколием, скрипом ставень и дверных петель, женским смехом и запьянцовской песней в красный день на улице, дробной тревогой конских копыт по полуночным мостовым, тяжелым плеском осенней воды в пресненских горьких колодцах.
Большое ненастье в пасмурном саване ступало по сугробам босиком. Касьян немилостивый, високосный пустосвят, вёл по сугробам медвежьи и волчьи свои стада на Москву. Нет спасения, Москва-тоска.
Везли дрова на богатые улицы черные подводы, много тепла надобно в лихие февральские дни, до великого поста душа испачкаться успеет. Привязан был город к небесам печными дымами - незыблем земной жернов, далека от земли любовь, как Господня птица. А Господних птиц не увидишь. И туманны Его холмы.
...Вдребезги разбилась о самшитовую столешницу богемская хрустальная рюмочка.
- Сучка! Волочайка якиманская! До Государыни дойду! - гневалась в краснопером холодном доме у Харитонья мать-москва, Татьяна Васильевна, в каленом гневе себя забыла, изволила посуду колотить.
- Подай, раба, хрупкое!
Била об пол в бешенстве.
Трепетные руки челядинки-калмычки протягивали Татьяне Васильевне блюдечки с эмалью. Приживалки и собачонки напичкались по-тихому под мебеля пыльные.
Упаси Бог пикнуть, пока с барыни запальный гонор не сойдет - молчи, раб, бока да чуприна целее будут.
Как смели последнему сыну свадебный отказ подсунуть после сговора! С кем враждовать вздумали, давно ли в смердах ходили, давно ли у жидов червонцы клянчили!
Сучка! Волочайка Якиманская!
С чего начала, тем и закончила, замахнулась гневная Татьяна Васильевна фарфоровым сливочником.
Кавалер перехватил материнское запястье - холодны ладони его были, как обычно. И так тверды, что ахнула мать от первой боли, в кресло рухнула. Уронила сливочник на жесткий подол - покатилась посудинка невредимая.
А Кавалер сказал матери ласково, будто воровской нож из рукава вынул:
- Стыдно, матушка. На безлюбье свадьбе не бывать. Анна свое счастье решила. Суди Бог. О ней напрасного слова не позволю ни псу, ни кесарю, ни Господу.