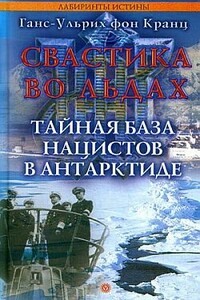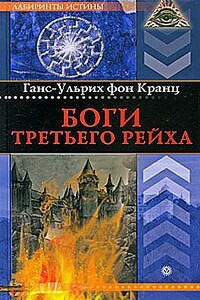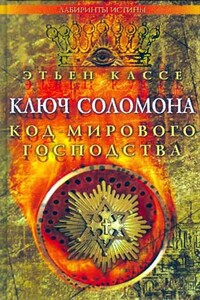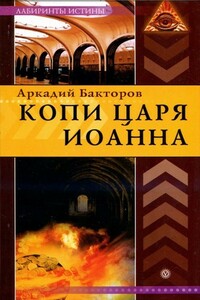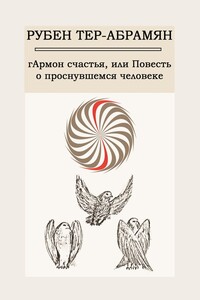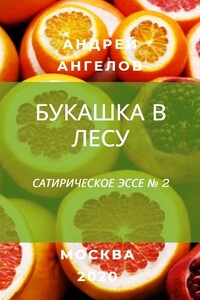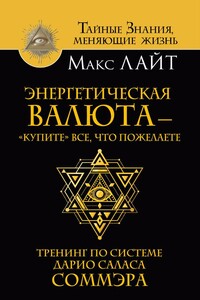Тайна сверхчеловека, или Откровения «Ангара-18» | страница 32
3
Я хотел бы вернуться на три-четыре десятилетия в прошлое и рассказать, что подтолкнуло меня к изучению феномена души. Вы уже знаете, что в 1952 г. я вернулся в армию США и возглавил особый отдел на авиабазе Райт-Паттерсон — тот самый «ангар 18» с инопланетными «погремушками». Я был обладателем докторской степени по управлению, и на первый момент этого вполне хватало; год-другой я успешно справлялся со своими обязанностями. Но время шло, росло количество экспонатов, мой штат становился все обширнее, исследования — все более специальными, и для руководства таким хозяйством мне приходилось вникать в проблемы медиков и химиков, техников и лингвистов, компьютерщиков и генетиков. Знаний катастрофически не хватало, ив 1959 г. я понял, что должен учиться, дабы не стать, как говорят у русских, «свадебным генералом». Я был сравнительно молод — мне исполнилось 38 лет, имел крепкий тыл — очаровательную жену и двух прелестных дочек, и дядюшка Сэм заботился, чтоб мы не голодали; кроме того, у меня, как ветерана войны, сохранялось право на льготное образование.
Взвесив все эти факторы, я начал заниматься в университете Джона Хопкинса, избрав своей специальностью экологию. Выбор был не случаен. Во-первых, университет располагался близко, в Балтиморе, в двухстах милях от нашего жилья, и его считали самым престижным учебным заведением в области биологии и медицины. Во-вторых, экология была тогда делом новым и многообещающим; этот раздел биологической науки изучает взаимоотношения живого с окружающей средой, т. е. дает широкие познания в зоологии, ботанике, генетике и анатомии, в химии и геофизике, в географии и астрономии, не говоря уж об особых разделах математики — теории игр и системном анализе. Я одолел эти премудрости за пять лет, и в 1965 г. стену моего кабинета украсил новенький диплом: PhD по экологии, все, как положено, в дубовой рамке, под стеклом[27]. О содержании моей работы уже упоминалось — я исследовал иерархические связи в сообществах птиц и животных, так сказать, социологию наших меньших братьев. Я не совершил великих открытий в этой области, но некоторые психологические аспекты их поведения меня заинтересовали. Похоже, среди зверей (особенно — собак, дельфинов и высших обезьян) были свои тупицы и гении, свои экстрасенсы и телепаты. Для этих сообразительных ребят многое в нашем человеческом мире казалось безусловно трансцендентным; они подсознательно ощущали его невероятную сложность, скрытую за фасадом обыденного, но были недостаточно умны, чтобы ее постигнуть.