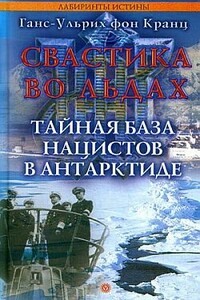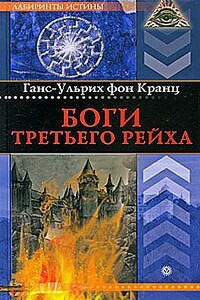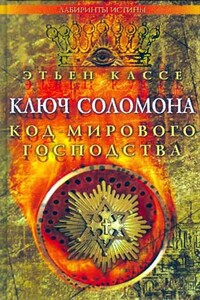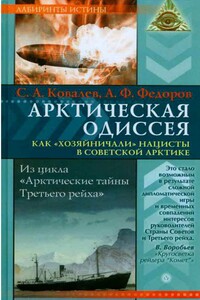Копи царя Иоанна | страница 68
На Соловках ее приняли в штыки — это мягко сказано. Многочисленные интриги с грамотами, запиранием и уничтожением новых церковных книг, казалось, нарочно разыгрывались укрывшимися за толстыми стенами монахами, к которым присоединились также многие раскольники со всей земли русской. Весной 1769 года между царским двором и монастырем опустился «железный занавес» — иноки заперли ворота крепости. Ничего о том, что происходило в эти годы под землей, не знали монахи, которых расспрашивал Максим. Осада же накатывалась лавиной на валуны соловецких стен, но с каждым годом уходила обратно, в следующий раз возвращаясь с удвоенными, а то и утроенными силами. Только под напором целой тысячи хорошо вооруженных стрельцов под руководством Мещеринова удалось взять крепость аж в 1676 году, причем исключительно благодаря предательству одного из монахов.
Лишь только мятежная крепость пала, из самой Москвы оперативно нагрянула в Соловки целая госкомиссия, якобы для приведения монастырского хозяйства в порядок. Это в то время, когда после раскола не то что отдельный монастырь, всю страну в порядок приводить нужно было. Тем не менее столица снова пристально следила за происходящим у своих северных окраин. Помимо Макария, архимандрита небезызвестного Тихвинского монастыря, и келаря Иллариона из Спасского, был в составе этой комиссии и царский казначей Феодосий, что, на первый взгляд, покажется странным. Но, как говорил Шерлок Холмс, истина всегда кроется в деталях. Значит, нужно было что-то царской казне от разоренного длительным противостоянием монастыря.
После первичной проверки вскоре на острова прибыли московский воевода, князь Волконский Владимир Андреевич и дьяк. Просто так из столиц таких людей абы куда не присылают. Но популярные исторические книги вообще не пишут о таких, казалось бы, незначимых подробностях.
На Соловках начался местный ренессанс под предводительством митрополита Макария. Библиотека получила новые церковные книги, а полуразрушенная крепость вновь обрела бравый непокоримый вид. Соловкам придумали в то время еще одно назначение — быть самой строгой тюрьмой, сбежать из которой было бы невозможно. В 1680 году в монастыре приступают к строительству крупного острога. В этом же году здесь же постригся в монахи видный вельможа Никифор Матвеевич, и почти сразу избран в соборные старцы. Где-то в истории монастыря такое уже было. Под неусыпном контролем изнутри держала всю братию династия Романовых. Тюрьмой монастырь был не только для узников, немногочисленных и чаще всего замешанных в крупных политических придворных заговорах, но и для самих монахов. В восьмидесятые годы Соловкам был прочитан новый указ, по которому пуще всего должны были пресекаться побеги иноков, а сумевшие скрыться должны были быть в кратчайшие сроки найдены и подвергнуты суровым наказаниям. Это касалось также лиц, способствующих побегу. Но это еще более-менее в порядке вещей. Удивление вызывает еще один пункт того же указа, запрещающий переводить монахов из стен Соловецкой обители куда-либо еще, хотя для того времени это было абсолютно нормальным явлением. Соловки во многом шли «впереди планеты всей», как показывает история. Впервые, следуя тому же странноватому указу, на островах был введен «сухой закон» — все приезжающие тщательно проверялись на наличие провозимого с собой спиртного, и если таковое находилось, то оно изымалось и опечатывалось. Впрочем, если знать, что находилось под этим клочком северной земли, то вполне понятно, к чему эти меры: тайна должна была оставаться тайной, поэтому ни один монах, попадавший в Соловецкий монастырь, не мог более выбраться оттуда, а пьяный, как известно, всегда болтун, а следовательно — находка для шпиона.