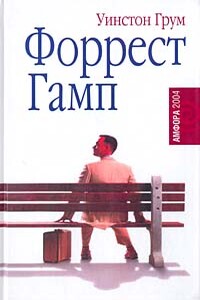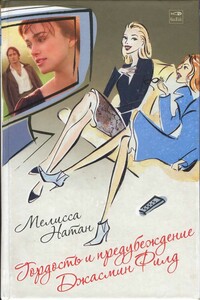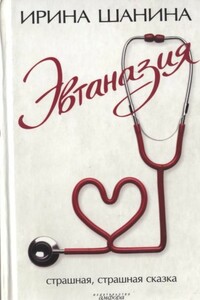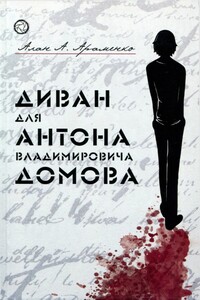Книга рыб Гоулда. Роман в двенадцати рыбах | страница 49
Последующая жизнь в Хобарте вспоминается теперь как сплошная утомительная череда заключений в каталажку и освобождений из неё: иногда меня арестовывали власти, обычно за уклонение от наказания либо за ещё более незначительные провинности перед лицом закона; однако чаще сажали под замок разгневанные содержатели таверн и хозяева распивочных, требовавшие, чтобы я так или иначе расплатился по счёту, который имел свойство сильно возрастать после очередной попойки. Жизнь моя составляла повторяющийся узор, основными элементами коего были: кутёж, долг, тюремное заключение либо отсидка в каком-нибудь погребе, где приходилось рисовать в обмен на свободу; за сим следовали восстановление безупречной репутации и, стало быть, новая возможность завести шашни с какой-нибудь дамою, прелестной или не очень — я никогда не был слишком разборчив, — едва сошедшей на берег со своими пожитками или уже кружащей возле одной из уготованных мне мышеловок. В основном жизнь была распрекрасная. Кажется, я совсем недавно употребил слово «утомительная»? Ну да, и это тоже, но зато в ней присутствовало такое достоинство, как ритм, а также то истинное удовольствие, которое доставляет определённость. Это стало напоминать вращение детского волчка, но ведь и он рано или поздно ломается.
Поскольку выход от моего творчества, или его, так сказать, продуктивность, должен был соответствовать поглощаемым мною запасам спиртного, картины мои быстро стали такою же неотъемлемой принадлежностью всех тамошних злачных мест, как чад от заправленных китовым жиром светильников и табачный дым; причём выяснилась любопытная закономерность: чем больше копоти оседало на стенах, тем обильнее украшали их мои произведения. Помнится, в «Надежде и якоре» меня не хотели выпускать из дровяного сарая, пока не увидели законченное полотно, на коем были изображены охотничьи трофеи в голландском стиле, — так я расплатился за выпитый там ром. Композицию я придумал сам, на ней было всё, что любят сельские джентльмены: тушка зайца, подвешенная за задние лапы, несколько фазанов, пара ружей, большая оплетённая бутыль — для пущего уюта — и белоголовый орёл, сидящий на высоком насесте.
На протяжении всего следующего года мастерство моё не то чтобы сильно росло, но претерпевало некие постепенные сдвиги, и то, что зарождалось как некий гротеск, переросло в стиль. В «Раскаянии и выпивке» я расписал стену цветами в стиле фаянсовой мануфактуры, возмещая кабатчику по имени Аугусто Траверсо моральный ущерб — я предположил, будто при пении он взял фальшивую ноту. Цветы обвивали портреты нескольких постоянных клиентов, которые выглядели скорее написанными в духе пасторали вождями Французской революции из Комитета общественного спасения — эдакими элегантными, целеустремлёнными Маратами и Робеспьерами, купающимися в море цветов, — чем опустившимися и утратившими цель жизни хобартскими забулдыгами. Но всё-таки эти старые каторжники — Бог да благословит их пропитые души — были польщены и остались весьма довольны.