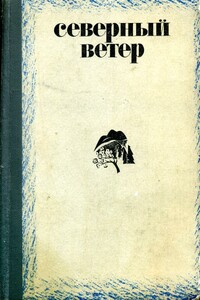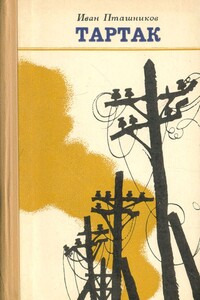Пристань | страница 44
— А ты рос ничего, круглый, пузатенький, мать с отцом оба работали — че хотел, то и ел. А ревливый был, ох и ревливый! Как Леонида Степановича на фронт отправляли, ох и поревел тогда. И поревел же, матушка ты моя, как вынесло твое горлышко. — Она погладила меня по волосам, как маленького, беспомощного, и сразу испуганно отдернула руку, как обожглась.
— Тебе, поди, неладно это? Лезет нянька с соплями. Ну че поделаешь, не часто ездим... Так вот, заревел ты, а отец взял тебя на закрошки, а ты орешь, а ты орешь — прямо лопнешь. Леня и говорит нам: сбегайте, мол, в школу за Серухой, я Ваську покатаю. Отец-то по кровям из крестьян, дед его из Пскова в нашу сторонку пришел. Пригнала голодуха, господь с ней... Вот и любил лошадок-то, хоть и учительствовал. Да-а... Вспрыгнул он на Серуху, тебя подали, а он как понужнул да взвикнул — и вдоль деревни таким метляком. Воротились — ты веселенькой, отец веселенькой, вроде и войны нет. И больше уж не кричал ты, даже когда Тимофеевну отпаивали... Не надоело тебе? — Она закрыла глаза и стала дышать ровно, спокойно. Я подумал, может быть, задремала.
Уже поднялось высоко солнце, стало много грачей вверху: под осень они собирались опять табунами, готовясь к отлету. По небу шли облака. Я смотрел в высоту, в то место, где остановилось млечное облачко, но сколько ни напрягал память — не мог услышать там, в своем далеком, ни отца, ни Нюры — тихой послушной няньки, не мог увидеть глаз той серой школьной кобылы, на которой катал меня на прощанье отец. Где он лежит теперь? В какой земле? Какой ветер трогает его прах, какой дождь мочит?.. А может, лежит он совсем близко от Вани, от тех Грачиков, а может, в той же могиле лежит — кто знает? Похоронной-то не было — без вести. Без вести... Сколько их было таких, что без вести. Облачко стояло надо мной. Я загадал: если оно тронется сейчас с места — буду счастливым. И мне показалось, что оно медленно пошло вперед, хоть и ближние облака стояли недвижно, но мое облачко пошло вперед, в далекую южную сторону, и вот уж его совсем нет — может, ушло далеко, может, растаяло. Я так и не понял.
— Давай о Коле говорить. Не могу я, когда молчат. И боюсь молчальников. Как замолчит человек — значит, обиделся, значит, ты в чем-то согрешил перед ним... Да не молчи ты, моя матушка! — Она опять взглянула на меня с радостной виноватостью, опять к моей голове рукой потянулась, но в последний миг задумалась и опустила глаза. Хотелось ободрить ее, признаться в чем-то тайном, таком тайном, невысказанном, что встает за душой ночами и выйти просится, хотелось приласкать ее каким-нибудь тихим обычным словом, но в горле затвердело и мучил стыд. Я опять заметил в себе, что стыжусь ее, стыжусь ее преданной откровенности и боюсь в это время себя. Наверное, пугала Нюрина доверчивость и непонятная простота, и я еще больше мучился, и хотелось убежать от нее, скрыться с глаз. Но кто мне поможет.