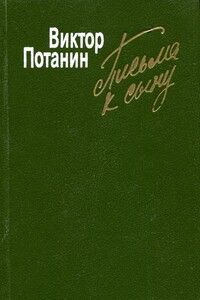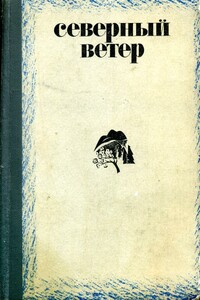Пристань | страница 15
— Ты что-о! Рассмешила! Дело прошлое — провожу диктант, а он на тебя — зырк да зырк. Подойду, шепну тихо: «На Нюрушку не заглядывайся. Думай, зарабатывай оценку». Он покраснеет, ужмется — и жаль его и хорошо тут же. Подумаешь: ведь дети почти, а все понимают. Сколько вам было?
— По шестнадцати... Нет, уже по семнадцати.
— Да. Так вот диктую, а он глаз на тебя наводит, не интересен диктант.
— Он не делился с вами? — неожиданно прерывает Нюра, и голос ее звучит строго, как требованье. Потом, видно, одумывается, что нельзя так с матерью, и прячет под ладонью лицо. Но ей все равно хочется узнать то последнее, главное, ради чего и сидим за столом. И опять, забываясь, строго смотрит на мать.
— Делился ли нет? — глаза у ней раскрываются, на лобик сбегают морщины, и он — чуткий, весь подается вперед. Но мать молчит, ничего еще не придумала, и вдруг вскакивает со стула, идет с чашкой на кухню — это похоже на бегство, а Нюра понимает по-своему и кричит:
— Не сердись, Тимофеевна! Спрос — не допрос...
И мать уже идет обратно. Ох, тяжелы эти десять шагов, вот уж и чашка обратно на стол поставлена, вот уж и сама села на стул — и сразу настигли Нюрины глаза, не дают опомниться, подумать о себе. И мать насмелилась:
— Конечно, делился. Все мне рассказывал, — сказала раздумчиво, с какой-то медлительностью, и Нюра опять напрягается, темнеют щеки до свекольной красноты. А мать говорит, как в пустоту, как мимо нас.
От тополя по ограде пролегла длинная тень. Она точно живая. И точно бы слышит нас, караулит.
5
Скоро сумерки, в створки наступает свежесть, за ней будет роса. В ограде — тихо, на улице — тихо, и во всем мире, наверное, тихо. Тишина эта с неба, в канун жарких осенних деньков. И растет в такой тишине опять трава по лугам, и сладок, пахуч этот второй укос, и пьянит он с ходу любого и отдает медом, а на ближних опушках зеленеет, пушится по второму разу сосна, и далеко виден этот зеленый цвет, как в знойную троицу, и поднимается рыба из омутов и хватает губами осевшую паутинку и заглатывает стрекозу — все смешалось, спуталось, весна ли, лето ли, да и разбираться не надо — живи и дыши.
Скоро сумерки. Нюра покашливает и трогает меня за плечо. Оглядываюсь, и в глазах у ней укор, сожаление. О чем она? И вдруг догадываюсь — надо ж мать слушать. И до меня, как сквозь туман, как через стену, доходит ее слабый осторожный голос. Делаю внимательное лицо, и Нюра успокаивается, убирает руку с плеча, и голос ее уже тверже, отчетливей, и вот уж он рядом: