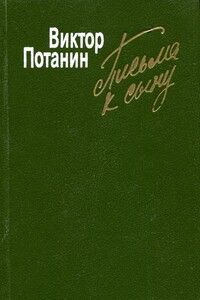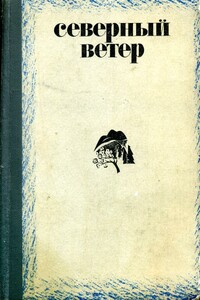Пристань | страница 14
— А еще?.. Еще-то? — голос западает от нетерпенья, но мать посмеивается, и Нюра ей поддакивает: тоже тихонько схохатывает — ведь мелькнула надежда, и снова ищет мои глаза, приглашая слушать, страдать вместе с ней. И я подвигаю свой стул поближе, а мать говорит строгим отчетливым голосом:
— Нюра, мне казалось, что Ваня провожал тебя. И за руки... держитесь. В общем... — И мать опять теряется, замолкает, но Нюра уже не видит это, не чувствует, и ей опять хорошо, благостно, опять на меня взглянула, и в глазах — свет.
— Как ты хорошо думала! Ай да Тимофеевна! За руки, говоришь? За руки-то... — повторяет сияюще Нюра и вдруг на миг хмурится. — Нет, того не было. Лишнего не возьму... А ты, Васяня, прости, не осуждай няньку. Каждому своя болячка больна. Ну, дальше, Тимофеевна!.. Только за руки он не держал меня, — уж совсем грустно сознается Нюра, и мать чувствует это и опять берет ее в долгий счастливый плен, и та сдается без сопротивления.
— Как-то вижу — он тебе записку передает. Сам вспыхнул, напрягся. Жалко его — ведь совсем большой парень. Раньше-то большие учились. По теперешним временам, с его годами — в институт пора... И вот держит записку, сам вспотел.
— Ну и память! Тридцать лет прошло, а у тебя как на стеклышке. И та записка была. А, знаешь, о чем? — Нюра таинственно жмурится, платок снова сползает, один нос на виду.
— Не знаю, — откровенно сознается мать и опять повторяет, — не знаю, не могу сказать.
— Он попросил книгу. Книжка мне хорошая попадала, «Олеся». Он и попросил. Так, поди, это разве предлог?
— Конечно, предлог! — подхватывает мать, и Нюра снова светится, вытягивает высоко шею и трется ей по-кошачьи об воротничок кофты.
— Он же тихий. Где уж за руки-то, — смеется Нюра и так смотрит на меня, словно желает сказать: «Хоть и держал он, а все равно не сознаюсь». И вдруг опять остывает, задумывается, тихо проводит по скатертке рукой.
— Скажи прямо, Тимофеевна, и глаз не отводи — я сильно страшна тогда была. В девках-то?..
— Не хуже других, а многих получше.
— Не набавляй, не хочу! — снова смеется Нюра. Опять довольна, хорошо ей, и говорит про себя, лениво и нехотя, как будто со сна потягивается: «Повяла наша девья красота...»
Мать задумалась, видно, устала с нами. Нюра пробует чай, он уж холодный, но ей все равно. Режет надвое яблоко и сразу о нем забывает. Я чувствую, как утомилась мать. Глаза у ней смутные, неморгающие, кровяное колечко возле зрачка. И жаль ее, а чем помочь? Увести бы Нюру на улицу, пройтись по деревне, новые дома показать. А намекнуть как ей — не знаю, и оттого совсем трудно и не могу смотреть в материны глаза. Нюра заметила наше молчанье и напугалась — вдруг ее осудили, вдруг где себя проглядела, и она спрашивает опять порывистым голосом: «Он, поди, не страдал обо мне, а я — дура, дуралей?..»