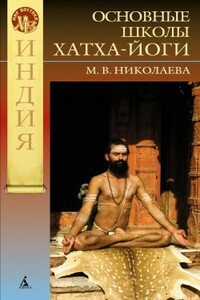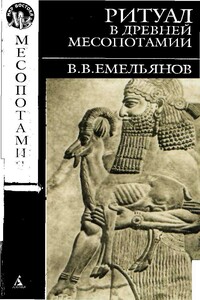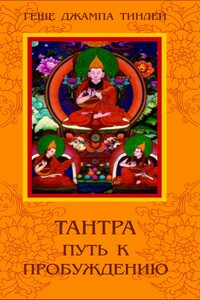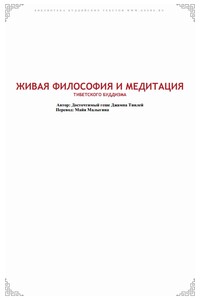Тибетский буддизм | страница 35
Однако Шантаракшита не учел специфики тибетской культуры, ее религиозных традиций и способов передачи религиозной информации. Религиозная жизнь тибетского общества VIII в. представляла собой большое разнообразие местных, локальных культов и связанных с ними ритуалов. Автохтонные религиозные верования пронизывали собой всю полноту социальной жизни. Религиозное знание трактовалось как тайное, сакральное, которое может быть достоянием немногих избранных. Авторитет религиозных деятелей базировался на их причастности к сокровенному знанию и подтверждался демонстрацией паранормальных способностей. Передача сакрального религиозного знания хотя и имела изустный характер, но никогда не осуществлялась публично — для всех. Религиозный деятель, сообщая сакральную информацию, претендовал на роль посредника между верующим и божеством, установление контакта с которым зависело от особых мистических способностей такого посредника. Иными словами, сама религиозная деятельность была возможна только при наличии у большинства населения веры в силу местных божеств (то есть убежденности, что они составляют неотъемлемую часть социального пространства сообщества) и доверия к религиозному деятелю, его способностям устанавливать контакт с божествами.
Шантаракшита, проанализировав причины неуспеха своей попытки обращения тибетцев в буддизм, порекомендовал Тисрондецану пригласить другого буддийского учителя — прославленного мастера тантры Падмасамбхаву. Идея Шантаракшиты заключалась в том, чтобы начать с популяризации буддизма в народной среде, применяя для этого методы, эффективные именно для населения, не владеющего письменностью. В тибетских хрониках, как правило, воспроизводятся слова Шантаракшиты, мотивирующие необходимость приглашения другого проповедника. Он указал на то обстоятельство, что принятие буддизма простыми людьми невозможно без демонстрации проповедником необычайных способностей: опираясь на свой мистический дар, новый проповедник должен вступить в контакт с местными божествами и «усмирить» их. Гениальный миссионер Шантаракшита понял, что тибетской аудитории для первоначальной инициации в буддизм нужен не проповедник — знаток канонических текстов и монашеской религиозно-философской традиции, а учитель, владеющий, подобно служителям местных культов, искусством психотехники, нужен компетентный буддийский йогин.
Падмасамбхава вошел в историю тибетского буддизма на статусе «Второго Будды». Именно так называют индийского миссионера тибетские историографы. Падмасамбхава, буддийский учитель-тантрик, сумел обратить в веру Шакьямуни бывших последователей местных религиозных культов. И достиг он этого поразительного результата отнюдь не силой проповеди, а исключительно благодаря умелому использованию паранормальных (риддхических) способностей, которыми владел как мастер буддийской йоги. В тибетских хрониках довольно подробно говорится о чудесах, удивительных действиях, сотворенных Падмасамбхавой по пути в Тибет. Так, царских посланцев он изумил, превратив пригоршни земли в золото. Когда дорогу преградила песчаная буря, вызванная гневом местных божеств, он усмирил их ярость силой своего сосредоточенного сознания, погрузившись в созерцание.