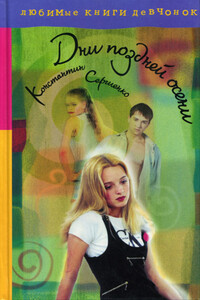Самый счастливый день | страница 61
— Так о чём ты хотел говорить?
— Николай Николаевич, — произнёс он глухо. — У меня есть план. Арсеньеву надо перевести в другую школу.
Я остановился и сделал удивлённый вид.
— Зачем?
— Она здесь погибнет. Николай Николаевич, — он заговорил горячо, — вы сами сказали, что с ней надо бережно. Есть ещё время, а дальше будет поздно. Ей надо уйти из класса. Её не понимают. Учителя придираться стали. Химоза ненавидит просто, ставит двойки, обзывает аристократкой.
— Но разве это укор?
— Укор! Для Химозы укор. Она ненавидит всё, что вышло не из окопов или землянок.
— Аристократы тоже воевали. И даже неплохо.
— Я в переносном смысле. Арсеньевой здесь тяжело. Она на пределе.
— В другой школе будет лучше?
— Пока они разберутся! Ведь здесь она проучилась два года. Ей кончать десятилетку.
— Но неужели всё так драматично?
— Вы просто не до конца знаете, Николай Николаевич. Арсеньеву всё выбивает из колеи. Вот сегодня прочитали Тютчева. Можем поспорить, завтра в школу она не придёт.
— Как так?
— Я видел. Что-то её потрясло. Она опять заболеет. Вы, кстати, здорово выдержали паузу перед концом. Как актёр.
Я пожал плечами, а в голове моей стремительно и сжато неслись тютчевские строки:
— Николай Николаевич, ей надо переводиться…
— Положим, Серёжа, я с тобой соглашусь. Но как же сама Леста? Ты уверен, что и она согласится с тобой?
— Ей всё равно. Она живёт как во сне. Особенно сейчас.
— И как это сделать? Нужно согласие матери, учителей. Должна быть причина, в конце концов. Почему с этой идеей ты обратился ко мне?
Он посмотрел на меня в упор.
— А к кому же ещё?
— Не знаю, не знаю. Я новичок в этой школе. Во всяком случае, не в первой же четверти ей уходить. Надо кончить девятый, а там посмотрим. Может быть, всё утрясётся.
— У меня плохое предчувствие, — мрачно сказал Камсков.
Случился у меня разговор и с двумя подругами, Гончаровой и Феодориди.
В школе бурлил и веселился субботник. На долю 9-го «А» досталась уборка класса, учительской третьего этажа и зоологического кабинета. Девочки, повязавшись платками, споро вытирали пыль, мыли полы. Мальчики носили воду, задирали девчонок и время от времени исчезали в общеизвестных местах, откуда явственно тянуло дымом. Проханов никогда не работал. За него трудилась компания, Струк, Орлов и Куранов. Флегматичный Проха сидел на подоконнике и ковырял то в носу, то в ухе. Кажется, его ничто не интересовало. Однажды лишь вспыхнула искра любопытства, когда я читал иронические строки Тургенева о двадцатилетних российских генералах, убивающих время на европейском курорте. Проханов даже задал вопрос: «В двадцать лет генерал? Враньё». Пришлось объяснять, что продвижение к чинам в старые времена отличалось от нынешнего. С рождения дети сановитых дворян записывались в гвардию, иные годам к шестнадцати достигали штабс-капитана, а то и майора. Бывали и малолетние полковники. Это поразило Проханова совершенно. Я видел, как он тайком листал на уроке библиотечную книгу «Герои Отечественной войны 1812 года». Время от времени Проханов являлся то с подбитым глазом, то с шишкой на лбу. Я знал, что он верховодит группой подростков в барачном квартале. Им противостоит банда какого-то Лисагора. Время от времени возникают драки, доходящие до поножовщины. В этих драках Проха неистов. В школе, однако, тих, незаметен. И будто бы из-за матери, которую бьёт отец и все благие надежды которой связаны только с сыном. Отца Проханов грозится убить. В школе делают вид, что ничего об этом не знают. Приводов в милицию у Проханова пока нет. Но на третий год в девятом его не оставят, уж как-нибудь выпихнут из благополучных стен. Проханов не был учеником, он только числился. Судьба его в этом смысле педсовет не интересовала. «Отпетый» — как-то выразился про него директор.