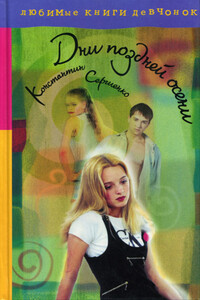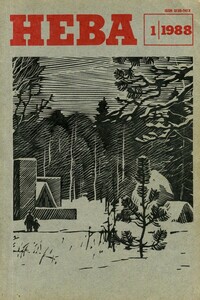Самый счастливый день | страница 22
Но нет, всё не так, не точно, отсутствует главное. Как подыскать слова?..
— Егорыч, почему ты её написал?
— Не знаю, приснилось. Здесь странные снятся сны. Ты увидишь. Снилась мне несколько раз в этом красном берете. Помнишь его?
— Вот он, Егорыч. Все годы со мной.
— Бог мой! И вправду…
— Я ведь и ехал сюда для того.
— Вспомнить хотел?
— Егорыч, Егорыч. Разве такое можно забыть?
— Годы идут.
— Смотри, он такой же красный. Немного вот здесь порыжел.
— Она мне снится, глядит на меня и словно хочет сказать. Я ей шепчу, говори, говори. А она только губы откроет и снова молчит. Ах, какое святое созданье! Я плакал во сне.
— И мне она тоже снится. Но не потому я приехал, не потому. Поверишь ли мне, Егорыч, я получил от неё письмо.
— Письмо получил? Когда же?
— Этой весной, в апреле.
— Ты шутишь! Как мог получить ты письмо?
— Не знаю.
— Её же нет, её нет на свете.
— Но я получил письмо. Письмо из Бобров, и штемпель бобровский. Это письмо могла отправить только она.
— Ты шутишь, ей-богу.
— Нет, не шучу, я дам тебе посмотреть. Был у нас уговор: если стану нужен, она пошлёт мне один листок. Этот листок хранился у неё, об этом не знал никто, и никто не ведал об уговоре. Смотри, я получил этот листок, да и рука на конверте её. Вот почему я приехал, Егорыч. Она зовёт, я ей нужен. Быть может, она в беде.
— Да нету, нету здесь никого! Мне ли не знать?
— Я должен, должен, Егорыч.
— Господи… — Он схватился за голову и надолго застыл в неловкой горестной позе.
Нет, всё не так, не точно. Поймать состоянье, ту эманацию, которая шла от неё. Тихий свет, прохладный. Пожалуй, млечный. Млечный свет исходит от неё. Мерцанье. Мерцанье ночных недостижимых высот…
Я подружился со своей хозяйкой. Несмотря на разницу лет, сближение произошло легко и естественно. В основном, конечно, благодаря ей, человеку чуткому, внимательному и расположенному к проникновенной беседе. Я вынужден был отметить, что, несмотря на возраст, миновавший бальзаковский, выглядела она привлекательной, тем более что тщательно следила за собой и одевалась со вкусом.
Драма её жизни была обычной для тех времён. Муж, известный китаист, профессор университета, после войны попал под каток шумной кампании, был заклеймён в газетах и отправлен в лагерь. Веру Петровну выселили из Москвы, она кое-как устроилась в Бобрах. Теперь хлопотала об освобожденье мужа, и, кажется, дело шло к успешному завершенью.
— Народ начал «всплывать». Да вы и не представляете, Коля, какие людские массы сокрыты в дебрях Севера и Востока. Впрочем, терпеть не могу это слово «массы».