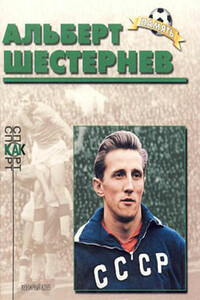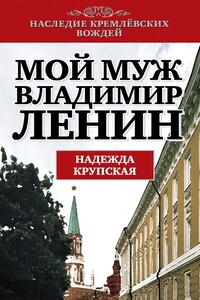Юрий Сёмин. Народный тренер России | страница 34
— Для тренеров я был не подарок, поскольку из тех, о которых говорят, что «им больше всех надо», — рассказывал Сёмин о своих годах в командах мастеров. — Свое мнение всегда отстаиваю до конца. К тому же терпеть не мог скамейку запасных. Поэтому однажды поменял «Спартак» на «Динамо», поэтому и оттуда ушел, поэтому и ходил-бродил по футбольному белу свету. Переход из команды в команду — каждый раз ломка. Иной раз это скитания без дома, без семьи. Но, оставаясь все время в одном клубе, игрок зачастую хиреет. У меня же все время были новые ориентиры, раздражители, эмоции, постоянное стремление чего-то добиться. Своей карьерой доволен. Счастливых дней было много. А играл у кого! У Бескова (рядом с Яшиным), Симоняна, Старостина... Разве это не счастье для футболиста?
Подвести итог игровой карьере Сёмина хотелось бы меткой характеристикой популярного в 1980-е годы журналиста Виктора Асаулова:
«Футболистом он был задиристым. Случалось, спорил, где был прав. И где неправ. Заводился сам, заводил соперников. Судей. В единоборствах — колюч, неуступчив. Бывало, после поражения не спал. Мог переругаться со всей командой. Словом, рвал и метал. А его любили. Тренеры. Партнеры. Судьи. Зрители. Его друзья. И до сих пор с удовольствием вспоминают его финты, его голы. Это он, Юрий Сёмин, своим отношением к футболу сумел убедить всех, в том числе и строгих членов спортивно-технической комиссии, порой разбиравших его проступки, в том, что если он что-то и делал, выходившее за рамки дозволенного, то в пылу борьбы, теряя иногда контроль над своими поступками. Иными словами, каждый, кто видел Сёмина в игре, кто с ним встречался за пределами поля, его не оправдывал, но сознавал, что все хорошее и все плохое в нем от страстной любви к футболу, от неумения сдерживать эмоции, признавать свое поражение. Проигрывать он не любил. Таким игроком и остался в нашей памяти».
ГЛАВА 7. ЭКСПЕДИЦИЯ НА «ПАМИР»
Историю отечественного футбола писали не только великие игроки, но и выдающиеся тренеры. Профессия эта, зародившаяся у нас лишь в 1930-е годы, сразу выявила лучших, еще довоенных новаторов своего дела Константина Квашнина, Михаила Козлова, Сергея Бухтеева, Юрия Ходотова, Михаила Товаровского, Виктора Дубинина, Бориса Аркадьева. Однако фамилии этих первых подвижников тренерской профессии в СССР ничего не скажут даже самым дотошным зарубежным знатокам футбола.
Лишь осенью 1945 года в Великобритании впервые прогремело имя советского специалиста Михаила Якушина, только начинавшего свой тренерский путь в московском «Динамо». Триумфальное шествие динамовцев по британским стадионам создало Якушину ореол величия в глазах давно осознавших цену, значение тренерской профессии тамошних болельщиков. В отличие, кстати, от нас, научившихся уважать тренерский талант гораздо позже, и то не в полной мере, которой он заслуживает. Даже сейчас от иного руководителя популярнейшего клуба можно услышать, что вклад тренера в успех команды составляет всего лишь десять процентов. А при так называемом социализме роль личности, в том числе и тренерской, тем более всячески нивелировалась, и если популярность звезд, выходивших на поле перед публикой, невозможно было заглушить, то тренер в большинстве случаев оставался за кадром.