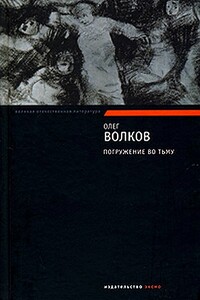Семь дней творения | страница 8
Пробуждение Петра Васильевича отстаивалось долго и тяжело. Кутерьма расплывчатых видений еще, казалось, кружила в комнате, а день уже проникал его предстоящими заботами. Следовало сегодня же выхлопотать дочери место, где бы она могла без ущерба для своей привязанности к нему, заняться стоющим делом.
Старик привычно потянулся было к перегородке, но тут же, словно перегородка сделалась вдруг раскаленной, отдернул руку и не без горечи усмехнулся про себя: «Забывчив стал, седой черт! Не можешь без прислуги».
Редкую листву яблони у самого окна едва-едва по самой кромке тронуло солнце, и вся она еще трепетно подрагивала от ночной сырости. Но все же эта ее вечная убогость выглядела куда устойчивее глухой, в два с половиной кирпича стены, наступавшей на нее с тыла.
За много лет Петр Васильевич так привык к убранству своего жилища, где ничего и никогда не стояло для него в отдельности, а всегда все вместе в одном целом образе, что теперь, когда почему-то, и вдруг, каждый предмет заговорил с ним особым языком, он несколько озадачился.
Петр Васильевич оглядывал комнату, узнавая и не узнавая ее. Что-то совершенно неуловимое изменилось в ней. Будто впервые увидел он шкаф с запыленным граммофоном наверху. Конечно же, и шкаф, и граммофон попадались ему на глаза множество раз, но лишь сейчас он отметил их, и отметил каждого в отдельности. Или вот ходики с отломанной стрелкой. И ходики, и отломанная стрелка мозолили ему глаза лет уже не менее сорока, но только теперь Петру Васильевичу подумалось: «А стрелка-то отломана, да…». Даже в скрипе собственной кровати он лишь сегодня различил лады и оттенки: если сядешь с надрывом; ложишься, звук начинает петь; повернешься на бок, отзывается надтреснутым дискантом.
Нет, мир положительно оборачивался к Петру Васильевичу какой-то иной стороной, иным ракурсом.
За перегородкой послышался шорох, затем голос — просительный, виноватый:
— Папаня, вы что?
— Ничего, дочка…
— Нет, я думаю, может, нездоровится?
— Чего себя беспокоишь зря, спи…
— Вам, папаня, вставать время… Я сейчас.
— В столовую схожу, Антонина, спи.
Послышался жалкий всхлип:
— Я больше не буду, папаня, ей-Богу, не буду никогда…
— Чего не будешь?
Из-за стены, точь-в-точь, как маленькая, дочь засопела, чуть в нос и подбородок:
— Пить… Не буду…
— Да разве я потому, дочка! Хочу, чтоб поспала ты… Мое дело стариковское… Всем дедам леший спать не дает, а тебе зачем ни свет, ни заря вскакивать, спи себе…