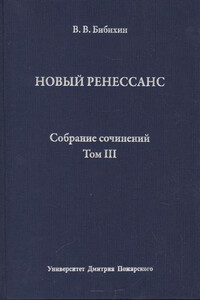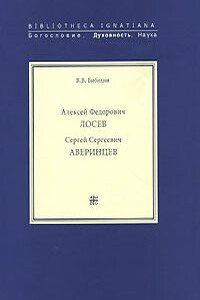Мир | страница 39
«Чем больше таких минут, тем меньше разумной жизни, а если они совсем не возвращаются, вот и смерть. — Чтобы умереть таким образом, не нужно прекращать жизни, другой же смерти нет. Смерть в самой жизни, вот все, что называют смертью. Между тем объясним возможные здесь недоразумения. Когда говорю сознание жизни, я не подразумеваю то идеологическое сознание, на которое опирается новая философия: простое чувство существования (имеется в виду декартовское «сознаю, следовательно существую». — В. Б.). Я понимаю под этим сознанием не только чувство жизни, но и отчетливость в ней. Это сознание есть власть, данная нам действовать в настоящую минуту на минуту будущую, устраивать, обделывать (имеется в виду не «обделывание делишек», а работа с веществом жизни, как обделывание древесины, выделывание вещи. — В. Б.) жизнь нашу, а не просто предаваться ее течению, как делают скоты бессловесные (как так? значит «идеологическое сознание» пока еще не мешает быть «скотами бессловесными», нужно какое-то другое сознание? Так найди же слово, хоть ты и пренебрегаешь терминологией, нельзя же одним и тем же словом называть противоположные вещи! И Чаадаев находит, вернее, в русском языке находится слово по его смыслу. — В. Б.). — Когда эта совесть, это сознание потеряно, то нет воскресения».
Вдруг совесть на месте сознания? Что за переход от сознания к совести? И о чем хочет сказать Чаадаев, отодвинув «идеологическое сознание»? Совесть... проснуться от смерти... власть, данная нам... действовать на минуту будущую... Это совсем другой пейзаж, чем плоскость сознания.
Сознания еще мало, чтобы уверенно говорить, что мы не спим, хотя бы сознанию казалось и иначе. Мы предположили, что мы, может быть, сделали попытку проснуться. Мы не знаем, что у нас получилось. Но попытка перенесла нас в другой пейзаж, из описания того, какая вещь мир и как его понимать, если его нельзя увидеть, — в настроение, и в какое настроение: завороженной тишины, отрешенного молчания, когда все вещи отошли, перестали теснить нас, но не стали безразличными, а словно доверительно придвинулись в домашней близости, словно успокоились оттого, что мы им допустили быть, как они есть и хотят. (Об этом «вещи хотят» я однажды услышал странное слово от ребенка неполных четырех лет, мы были с ним в месте, откуда над лесом видна поднимающаяся луна. Я спросил его, почему она поднимается, может быть, ее тянут на веревочке? «Нет, не на веревочке». Тогда почему же?