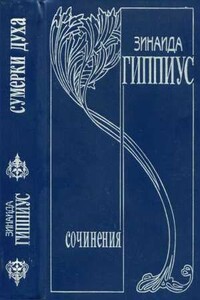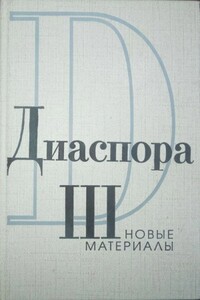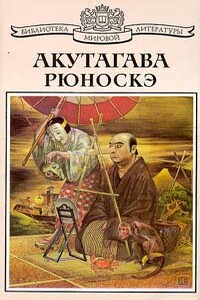Арифметика любви | страница 21
— А что?
— Да что. Вовсе без соображенья живут. Господа миссионеры верными овцами их считают, потому слова они против не говорят, в церковь по праздникам ходят. Благословит их приезжий батюшка, порадуется и уедет. А то вовсе о них не вспомнит, — миссионеры-то, ведь, к нам, а не к ним приезжают. Ну, а мы между народа живем, так и знаем ихнюю-то веру. Иконы, скажем. Икона как бы портрет, ей всяческое уважение, тем пуще, что не человек изображен. А у наших есть ли понятие? Войдет в избу: «Где у вас Бог-то? В какой угол молиться?». Бог-то, мол, не увидит, коли не в тот угол помолюсь. Оттого их, которые духовного согласия, за безбожников считают. Нет икон — Бога нет. Или там бабу какую спроси: сколько Богородиц? Она те и начнет высчитывать, коли усердная к церкви: Смоленская — раз, Казанская — два, Троеручица да Толгская — четыре, и пошла, и пошла, вон, мол, сколько их, ну…
Нам понятно все, что говорит Василий Иваныч, понятна и разница положений, среды. Мы, в Петербурге, боремся с чистым рационализмом, скепсисом, религиозным равнодушием, а они, здешние, — с темным невежеством, стоящим на месте религии. И тем удивительнее, что они не пали окончательно и даже «духовный» рационализм, перейдя через него, победили. Тощий спутник Василия Иваныча робко вставил, было, что-то об Евхаристии, как напоминании, а не претворении, но тотчас вызвал горячую речь о «тайности», об «огне», который должен входить в человека, изменять его, и огонь тот — «чудесный».
— Только чтоб воистину «единомыслием исповемы»; святого Иоанна тоже мы много читаем. Ибо тут мудрость. Нельзя эту книгу откинуть…
Жадно расспрашивал нас Василий Иванович, что думают обо всем этом «образованные» люди, какие есть написанные книжки. Тут отвечать было затруднительно; и какие книги могли бы им посоветовать? Не Толстого же? Да Василий Иваныч и бросил как-то вскользь: «Читали мы намедни Толстова: не ндравится…». Или рекомендовать им «Миссионерское Обозрение», этот темный ужас варварства?
Василий Иваныч культурный, тонкий человек — в высшем смысле. Читать такое «Обозрение» ему было бы оскорбительно, а Толстого — бесполезно: он ушел внутренно куда-то дальше. Как художник Толстой не пленит его: он от эстетики дальше, чем ребенок. Может быть, — от нашей, литературной и привычной, а его эстетику мы только не понимаем… Самое же изумительное в нем — это была его жизненность. Чувствовалось, что живет он не помимо своего главного вопроса и не подделывает жизнь под вопрос, а естественно сливаются они вместе…