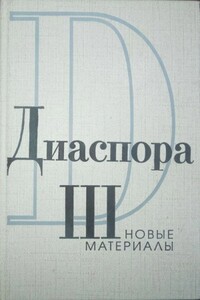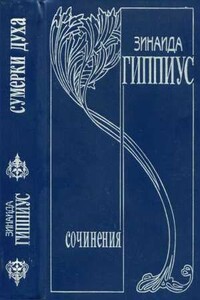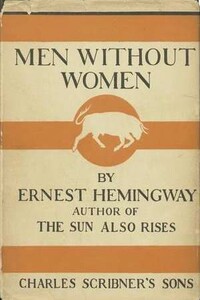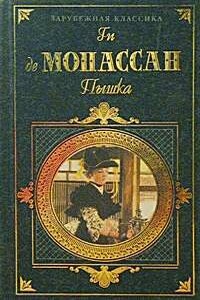Чего не было и что было | страница 47
Только атавизмом можно объяснить это стремление молодых писателей спрятаться от идеологии — в засохшие кусты. Впрочем — идеология не простая вещь, она страшит даже тех, у кого никаких кустов нет, некуда и для виду спрятаться. Страшит все слабые сердца: с идеологией хлопотно и неудобно. Она — порядок, а порядок мало устроить, — за ним надо следить. Перестраивать и дополнять (это приходится делать, если человек растет) — тоже не легкая работа. Среди беспорядка никакие перемещения, случайные, незаметны: беспорядок однообразен. Но если не куча камней, а целое здание, то вынуть из него камень и заменить другим, или прибавить новый, — дело серьезное и ответственное. Да, вот центр всех страхов: ответственность. За идеологию надо отвечать, а всякому втайне хочется ни за что, ни перед кем (даже перед собой!) не отвечать. Какое, в сущности, ребячество! Добром или неволей, но все равно за что-нибудь да отвечаешь, и за беспорядок не менее, чем за порядок.
Изменение времен, — атмосферы, духа времени, — очень загадочная вещь. Какие события и каким образом влияют на известный момент времени, делают его тем или другим? Люди ли творят время, или время — людей? Бесконечный спор. Но вот бесспорное: для каждого времени есть его, именно ему соответствующие, и люди, и дела, и мысли. Не непременно новые дела и мысли. Те же дела могли делаться раньше — и не удавались. Те же мысли могли быть высказаны раньше — и не понимались. Но вдруг наступает момент, и эти же самые мысли делаются — не то что понятными, но как бы для всех своими, общеизвестными и несомненными до такой степени, что даже начинают казаться прописями.
Не прописные ли истины все, что я говорю об отсутствии и присутствии общих идей, о порядке и беспорядке, об идеологии и о новых, более человечески широких путях, которые современность требует от искусства? Все Иксы, все Игреки, великолепно, не хуже меня, это знают. Одно только надо помнить: у многих знание это — пока лишь накожное; психофизиологически они еще атависты. Потому и чувствуют себя недурно в беспорядке и в «авсяческом» искусстве, а иногда и против своего же знания восстают, старые позиции защищают, повторяя старые им оправданья.
Это не важно. Все-таки все знают сегодня, что «искусство не отрицает разума», что «поэты выбираются из людей», что «идеологическое опустошение ведет к опустошенному искусству» и т. д., и т. д. Пусть X еще относится к своей мысли с «полуотвращеньем», увлекается чувственной данностью стихов, мирно сожительствует со своей внутренней беспорядочностью, вяло защищает самодовлейную изоляцию искусства и брезгливо трепещет перед словом «идеология». Ничего. Если в нем, — или в Y, Z, — есть поэт современный, — его накожное знание должно сделаться подкожным, т. е. войти в его психику и физиологию. И «чувство со знанием» не замедлит подсказать ему, что даже для стихов, сегоднезавтрашних, уже мало Данного, что они стремятся включить в себя должное, что искусство не терпит статики…