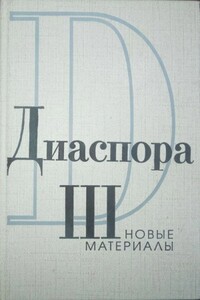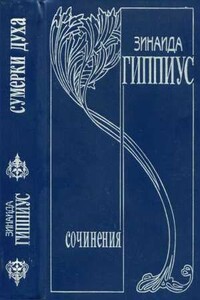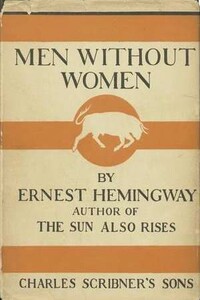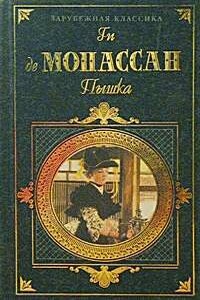Чего не было и что было | страница 46
Сделать «принцип» из беспорядка — довольно трудно. Зато он «нравится». Нежная привязанность какая-то; пассивная, — но верная, — влюбленность в собственную неверность. Этим душевный беспорядок, — состояние в сущности ненормальное, — только и держится. Едва «разонравилось», начинаются поиски порядка, и вдолге ли, вкоротке ли, худой ли, хороший ли — он всегда бывает найден.
Откуда все это, однако? Откуда у одних — уверенность, что искусство требует отсутствия общих идей, у других — преклонение перед «чином» поэта, безвольная любовь к душевному беспорядку или, по крайней мере, довольное с ним сожитие? Откуда, наконец, у всех — такое отталкиванье, до презрительного трепета, от самого слова «идеология»?
Не особенно трудно добраться до истоков. Не особенно трудно и точное название найти: это — атавизм. Попробуйте вникнуть в страх перед словом «идеология»: атавистическая природа его тотчас обнаружится. Вы увидите, что «идеология» как-то пристегивается к «тенденции»; тенденция — рассудочность, умышленность, поучение; а поучение и т. д. — посягательство на свободу «свободного искусства», которое… ну и пошла писать старая губерния.
Да еще какая старая! Именно атавистические навыки эти и «реакцинизируют» искусство сегодняшнего дня. Было некогда: молодые писатели и поэты взбунтовались против захвата искусства старыми «идейниками», в руках которых оно стало увядать. Вспыхнула борьба — в своем роде — «отделение церкви от государства».
Никакой бунт, даже идейный (а это был идейный бунт) не обходится без перегибов. В процессе освобождения искусство, подчеркивая свою свободность, объявило себя самодовлей-ным, оторванным даже не от тех или других форм жизни, не от те* или других идей, а от всяких. Лозунг «искусство для искусства», искусство как самоцель, родился в борьбе, естественно; *? ^Ыл' вероятно, нужен. Самый перегиб в безыдейность до ессмыслия, до отрицания содержания во имя формы, — и тот был нужен: он послужил к расцвету формы — тела искусства; научил владеть орудием — словом.
Все это было. И прошло. Борьба успешно закончилась. Процесс дифференциации — всегда промежуточный, — завершен. Но почему в психологии сегодняшних молодых писателей он все еще как будто продолжается? Бунта, конечно, нет (да и против кого теперь идейно, за свободу поэзии, бунтовать?) но все перегибы, свойственные моменту бунта, и только ему, — остались почти в неприкосновенности. Не они ли дают себя знать и в отталкивании от «мысли», и в пристрастии к «свободе» беспорядка, и в трепете перед идеологией, и в общем утверждении изолированности искусства?