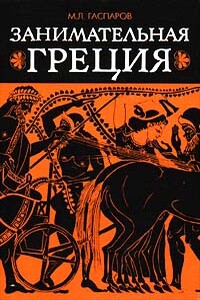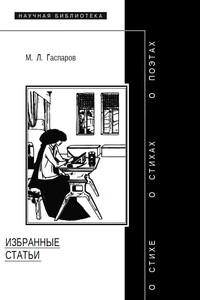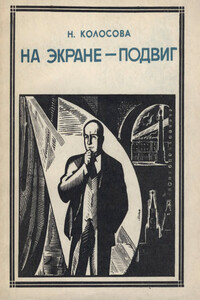Записи и выписки | страница 58
Он был не «наш знакомый», а «ее знакомый». Приходил несколько раз в неделю, медленный и мягкий, здоровался с бабушкой и со мной, закрывалась дверь в комнату матери, и за дверью было тихо. Иногда подолгу звучал рояль, это играл он. Возле рояля лежали ноты: сонаты Бетховена, романсы Рахманинова, советские песни («Вышел в степь Донецкую парень молодой»). Мать потом сказала, что в этом подборе все имело свой понятный им смысл.
Я рос с ощущением, что отца у меня нет. Таких семей был о много вокруг: те разошлись, а те погибли. У меня был о твердое представление, что отец в семье — нечто избыточное, вроде опорного согласного при рифме. Для самоутверждения я привык думать, что наследственность — вещь если не выдуманная, то сильно преувеличенная. Генетика в то памятное время была лженаукой. Только теперь, оглядываясь, я вижу в себе по крайней мере три вещи, которые мог бы от него унаследовать. Три и еще одну.
Первая — это редакторские способности. Я видел правленные им рукописи моей матери. Это была ювелирная работа: почти ничего не вписывалось и не зачеркивалось, а только заменялось и перестраивалось, и тяжелая связь мыслей вдруг становилась легкой и ясной. Когда я редактировал переводы моего старого шефа Ф. А. Петровского из [73] Цицерона и Овидия, превращать их из черновиков в беловики приходилось мне. (И не только его). Мне кажется, моя правка имела такой же вид. Однажды в разговоре с одним философом я сказал: «Я хотел бы, чтобы на моей могиле написали: он был хорошим редактором». Собеседник очень не любил меня, но тут он посмотрел на меня ошалело и почти с сочувствием — как на сумасшедшего.
Второе — это вкус к стилизаторству. Еще до войны, служа в «Безбожнике», отец сочинял роман XVIII в.: «Похождения кавалера де Монроза, сочинение маркиза Г**, с францусскаго переведены студентом Ф. Е., часть осьмая, Санктпетербург, 1787». Это была действительно часть осьмая, без начала и конца, поэтому появления лиц («Одноглазой», дюк Бургонской…), свидания, поединки, похищения, погони были сугубо загадочны. Язык был изумительный, каждая машинописная строчка была унизана поправками от руки, на оборотах выписывались слова и сочетания для дальнейшего использования: «Ласкосердой читатель!..» В шкафу у нас долго лежал и грудой отработанные им книжки: «Омаровы наставления», «Князь тьмы», «Золотая цепь» — до войны они были недороги. «Письмовник» Курганова я читал и помнил страницами, как Иван Петрович Белкин. Я вспоминал об этом, став переводчиком.