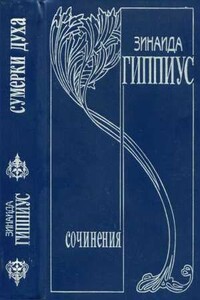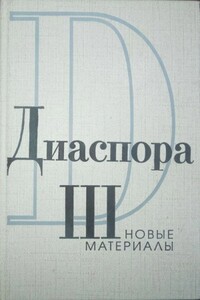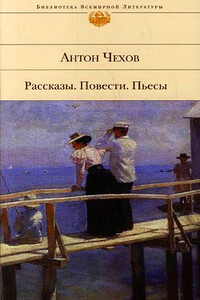Златоцвет | страница 9
Звягин произнес эту речь с достоинством победителя. Он уже видел, что либо Оскар Уайльд произведет такой невинный переполох, как в голове остроносого адвоката, который был не вреден, либо ему вовсе не будут возражать, — и таким образом последнее слово как-никак останется за ним. Он щеголял своей приверженностью к Уайльду, он со вкусом и удовольствием произносил самые беззастенчивые афоризмы Уайльда, действительно не заботясь о седых бородах людей, привыкших «держать знамя». Они молчали — тем лучше. Он не испугался бы их негодования, громко выраженного. И он был доволен собой, своей смелостью и своим рефератом, как будто он знал наверное, что есть в зале человек, которому это должно понравиться и которому единственно он, Звягин, хотел понравиться.
Кажется — все дамы были в восторге. Конечно, это был не более как обычный дамский восторг перед литературой: точно щебечущие птички, когда они садятся на ветку, чуть-чуть, на одну маленькую минуточку, едва касаясь дерева нежными лапками, — и сейчас же весело улетают прочь; конечно, тут была некоторая примесь недоумения; однако угол заволновался, головы сблизились, послышалось шептанье, которое еще пронзительнее выделило свистящее «с» у круглолицей писательницы. Громко дамам говорить не дозволялось. Генерал Лукашевич, как председатель, не мог допустить дамских возражений, он в них не был уверен. В шепоте не принимала участия только Юлия Никифоровна, выражение лица которой было теперь особенно удовлетворенно и томно, — и дама у рояля: она сидела слишком далеко.
Генерал уже хотел подать знак окончания прений, как вдруг из угла, противоположного дамскому, послышался слабый, но настойчивый голос:
— Прошу позволения сказать несколько слов референту…
— Кто это? — поспешным шепотом проговорила румяная писательница, наклоняясь к m-lle Бонч.
— Ах Боже мой… Не знаю… Кто это? Да позвольте: это профессор один московский… Кириллов, кажется… Однако! Он здесь случайно — и возражает.
Кириллов был тот самый бледный, сутуловатый господин с длинными бесцветными волосами, который с самого начала вечера не произнес ни слова. Его никто не замечал, многие его не знали и теперь удивились, когда он встал со своего места и подошел ближе.
— Я хотел сделать маленькое возражение, если это будет уместно, — начал Кириллов. Его голос был слаб, но внятен. Видно, что говорить он привык. Правой рукой он делал жесты во время речи, мягкие и приятные.
— Я позволю себе заметить референту, — продолжал Кириллов, — что он, говоря об Уайльде, называет его, если не ошибаюсь, самым ярким представителем новейших настроений, как бы выразителем новых движений. Насколько я мог заметить, симпатии референта вполне принадлежат важнейшим течениям — символизму и мистицизму. О них, кстати, тут уже было говорено, я не вполне согласен с референтом, что возражение господина Хамрата отдаляло нас от предмета. Каким образом, спрошу я референта, может Оскар Уайльд быть полным и смелым выразителем новейших настроений, не чуждых самому референту, если Оскар Уайльд прежде всего сторонник чисто эстетического взгляда на искусство с совершенным, даже резким отрицанием всякого символизма?