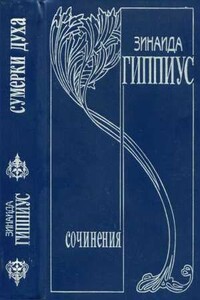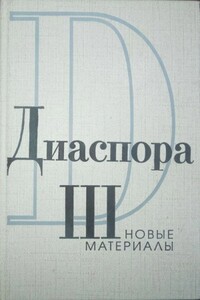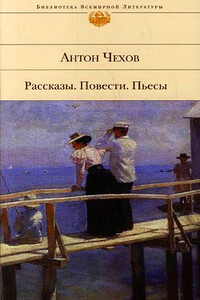Златоцвет | страница 10
Кириллов остановился, как бы желая вызвать Звягина на ответ но, не слыша ответа, продолжал:
— Таков мой упрек референту, который, быть может, не обратил должного внимания на эту важную, почти главную черту в мировоззрении критика и, может быть, отдал слишком много симпатий человеку, с ним не вполне солидарному и одержавшему такую победу, вероятно, большой смелостью и дерзостью (которая, замечу, нашла много подражателей) своих запутанных и часто легковесных афоризмов. Теперь, если позволите, несколько слов о самом Уайльде и его эстетической критике, не допускающей символизма. Я должен говорить кратко и потому мысль мою постараюсь облечь в самую простую, примитивную форму. Оскар Уайльд признает искусство для искусства. Жизнь, природа подражают искусству. Все заключено в искусстве. Жизнь идет за искусством, искусство ничего не берет у жизни — но откуда же берет свое содержание, свой предмет искусство, если оно не может взять изнутри, не может потому, что за ним нет ничего, символов нет, тайны нет, и никаких сцеплений, и никакого внутреннего смысла. Искусство Оскара Уайльда — беспредметное искусство, само себя отрицающее искусство… Ведь вы с этим не согласны, господин Звягин? Какой же стороне дарования этого критика принадлежат ваши симпатии?
Звягин давно пытался возражать. В голосе Кириллова, сделавшемся громче, была чуть заметная, чуть уловимая насмешливая нотка. Кончив свое краткое возражение, он отошел к стороне и сел, как будто желая показать, что он больше говорить не станет и не надеется услышать что-либо такое, на что стоит отвечать. Речь его произвела большое смущение. Юлия Никифоровна покраснела, на лбу у нее выступили капельки пота. Она, казалось, всем существом своим хотела защитить Звягина — и принуждена была молчать. Павел Викторович готов был пуститься опять в длинные разговоры, но следовало дать говорить референту.
Звягин говорил очень долго, очень спутанно и сложно. Он защищал и себя, и Оскара Уайльда, и символизм, и себя вместе с символизмом, говорил о необходимости эстетической критики, и все-таки как-то выходило, что он соединяет в своем восхищении Оскара Уайльда с символизмом — или, вернее, ничего не выходило. Достойный тон победителя исчез, Звягин сознавал это и оттого еще больше путался, срывался, думая в одно и то же время и о возражении, и о человеке, которому он хотел нравиться и перед которым ему было стыдно. Этот злобный стыд и страх застилал ему глаза, как туман, — и он говорил все хуже, путался все больше, и сам понимал, что, верно, нашел бы нужные слова, если б не волновался.