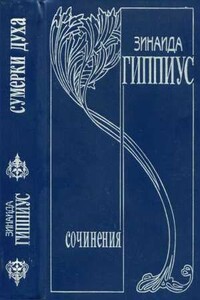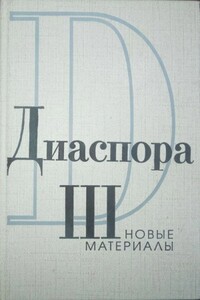Златоцвет | страница 34
Двоекуров успел побывать во всех местах за границей, рекомендованных современной модой, и очень любил употреблять слова, которые, при случае, можно найти и в Бедекере. Нередко он начинал свой фельетон: «Когда я был в Лондоне, то однажды, в Reading Hall или в Krown Street…» И так до бесконечности. Не гнушался и французскими словами, хотя признавался, что в истинно высшем обществе, «very select» [4] — французских слов уже почти не употребляется.
Он посещал охотно и салоны актрис, особенно богатых, не слишком талантливых, но с диким напряжением жаждущих славы через газетных репортеров. Он нежился под лучами их каминов, под льстивыми прикосновениями хорошеньких ручек и легко упархивал опять в большой свет, описания которого он иногда нечаянно смешивал с впечатлением салона артистки.
Двоекуров был, несмотря на свою молодость, очень полон, бел и мягок. Полнота его была не только в лице, но распространялась и на все его члены, облеченные в наимоднейший сюртук, застегнутый до горла и чуть не достигающий пяток. Лицо его было приятно — и вообще это был молодой человек, приятный во всех отношениях. Голова только немного теряла перед пухлым, располневшим, расширившимся телом, да глаза были какие-то странные: маленькие, не углубленные, голубоватые, глядящие из-под жирных век, они напоминали глаза одного спокойно веселящегося животного.
Все это Валентина знала лучше других. Двоекуров был ей особенно противен, и сквозь это отвращение она чувствовала, что ее влечет к нему. Она себе едва признавалась в этом, так глубоко было спрятано это влечение, но оно было достаточно для того, чтобы отравить все минуты Валентины в присутствии Двоекурова.
Валентина и раньше испытывала эти капризы своего зверя, зверя, которого она давно подчинила себе, да и никогда раньше она не давала ему воли. Она привыкла каждое движение своей души сознавать, уловлять и запоминать. Не скрывала от себя ничего, даже того, что ей казалось противным и нелепым. И каждый раз, когда ею овладевали приступы этой внешней, независимой от ее души и ума влюбленности к людям ей чужим и даже неприятным, — она с ясностью говорила себе: «Надо быть добросовестной и не скрыть от себя, что меня влечет к этому человеку. Но это не я, это какое-то безумие во мне. Это пройдет».
И это проходило. Она помнила, как ей нравился оперный тенор, доктор, лечивший ее брата, француз за табльдотом в Швейцарии… Валентина иногда сердилась на себя, иногда улыбалась и думала, что по совести не знает, действительно ли это чувство — реакция ее натуры, которую она переделала по-своему, или просто детские, примитивные ощущения институтки, не знающей жизни и любопытной.