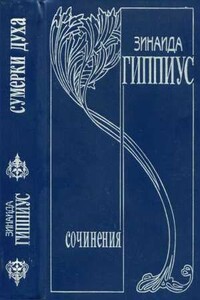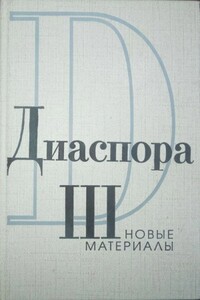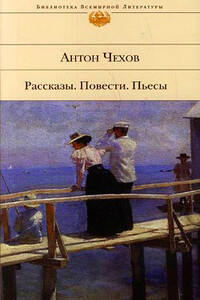Златоцвет | страница 33
Валентина, читая то, что ей нравилось, менялась. Лицо делалось иное, рост становился больше, голос казался шире и глубже.
При первых звуках этого чужого, почти незнакомого голоса Звягин вспомнил стихотворение, которое она читала. Это было коротенькое любовное стихотворение, не из лучших, как думал Звягин.
Она начала просто, с робким, почти наивным и томительным недоумением, жалобой:
«Откуда у нее такие звуки?» — подумал Звягин, следя за сдержанной страстностью, которая вдруг явилась в голосе Валентины. Она, никогда не любившая, не знающая, как девочка, с душой белой и ровной, как неисписанный лист… Или в ней есть силы любви?
«Или она любит?» — спрашивал он себя через секунду. Валентина говорила почти вполголоса, но так, что каждый звук был слышен — и теперь уже с полной, с настоящей страстью и тоской:
Она кончила. После секунды молчания — раздалось оглушительное хлопанье. Но это продолжалось недолго. Дамы безмолвствовали, точно сговорясь, а кавалергарды, генералы и чиновники, которым чтение понравилось, — в следующее же мгновение опомнились и сообразили, что так хлопать неприлично, да и чтение было какое-то… мастерское, а… кто его знает, тоже какое-то неприличное. Слишком уж выразительное.
Звягин не слышал, что было дальше в отделении, и не слушал. Он в невыразимой, горячей тоске повторял:
И когда опять позвонили и публика стала подниматься, Звягин, пользуясь антрактом и спеша выскользнуть из залы, не замеченный Юлией Никифоровной, отправился искать артистическую комнату.
Валентина Сергеевна, кроме явных, имела еще тайные причины отказаться от участия в вечере, а согласившись, волноваться и быть недовольной собой. Она знала, что встретит здесь человека, с которым во всю жизнь едва сказала несколько слов, но которого она ненавидела и душой, и телом, и воображением. Она даже не его ненавидела, а себя в его присутствии, ужасалась, не верила, не понимала себя и погружалась от мыслей о себе в такое отвращение, что ей потом долго казалось трудным дышать. Двоекуров — так звали ненавистного ей человека — ничего не подозревал и мирно, и невинно веселился, обращался к Валентине с вопросами и с тихим достоинством попивал марсалу в артистической комнате. Двоекуров был молод, но уже умен; он имел чрезвычайно доходное место в банке и, не принадлежа по рождению к высшему кругу, сумел завоевать себе в этом кругу прочные симпатии и убедить всех, что он именно тут на месте. Он писал фельетоны, а иногда и повестушки в самом новейшем духе, самые модные. Местом действия в повестях обыкновенно были какие-нибудь фиорды, норвежские леса; сюжет любовно-символический, а фельетоны прямо трактовали о символизме, приводились слова всех добрых знакомых, которые имели несчастие говорить о символизме перед автором, а в заключение оказывалось, что нет большего знатока символики, чем Двоекуров, только он не хочет сказать сразу все, что знает.