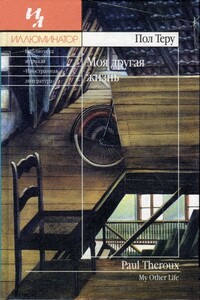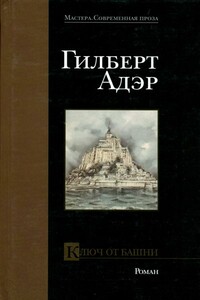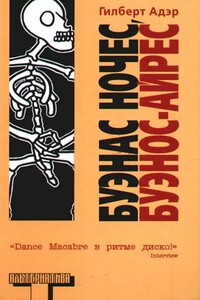Любовь и смерть на Лонг–Айленде | страница 50
Я начал размышлять по поводу актерской профессии вообще, и мне пришла в голову мысль, которая никогда прежде не приходила мне в голову: какое это странное призвание вообще — профессиональный актер. Скорее всего, заключил я в результате своих рассуждений, ум актера должен исполнять исключительно механические функции — в идеале он не должен ничем отличаться от чистого инстинкта. Ибо, играя роль, актер на самом деле складывает, подобно математическому суммированию, чистую последовательность мгновений, на которые разбивается интенсивность и характер рассчитанных на публику выражений лица и жестов, хотя при этом, разумеется, он выдает и тайные стороны своей собственной натуры, в которых, возможно, он только и отдает отчет самому себе. Это может выражаться в том, как он размахивает руками, пересекая комнату, или в том, как он поставил ногу, — глаза же зрителя в этот момент прикованы к его улыбающемуся лицу. Причем заметим, что когда актер улыбается в кадре, у него есть возможность выбирать, так сказать, из целого арсенала, из пышного букета улыбок, ведь улыбка может быть безжалостной, лукавой, саркастической, ироничной, сардонической, нежной, меланхоличной — любой. Таким образом, выбрав, актер превращает свое намерение улыбнуться в портрет совершенно определенной улыбки, в ее освященное традицией изображение. Из всего, что я говорю, можно сделать решительный вывод о несомненной ограниченности способностей Ронни как исполнителя, но ничто не может быть приятнее сердцу его поклонника, чем мысль о том, что на экране он улыбается собственной, ни с чем не сравнимой и очаровательной улыбкой, улыбкой, которую я знал по десяткам фотографий, единственной улыбкой, которой он владел. Улыбка Ронни была документом чувства, а не его изображением, причем, как мне показалось, ее не один раз сметала с его лица некая внутренняя печаль, словно улыбаться юношу заставляли под дулом пистолета, словно за спиной у него то и дело раздавался грозный оклик «Улыбайся или пеняй на себя!» Только тогда открывал он свою душу постороннему взгляду, делал общественным достоянием свою красоту и обаяние, и только те, кому больше по душе аплодировать статуе, чем модели, послужившей ее прообразом, могли предпочесть этому бесценному дару тех блестящих и ловких на язык «исполнителей», что прячут себя за ролью, как за маской, скорее скрывая от зрителя тайники своей души, чем обнажая их. Если Ронни порою и надевал маску, то лишь потому, что этого от него требовали, но даже тогда он еще сильнее выставлял напоказ свое истинное я. Ведь что есть на самом деле минимальное, очевидное и достаточное условие, при котором актер способен удивлять, волновать, смешить нас — в зависимости от того, в чем заключается цель его перевоплощения? Ответ, я уверен, состоит в том, что он должен быть неподражаемым, то есть сливаться с ролью настолько, что любой другой актер на его месте будет выглядеть самозванцем.