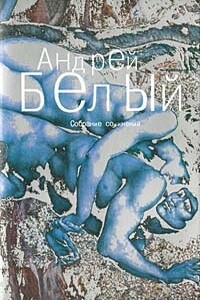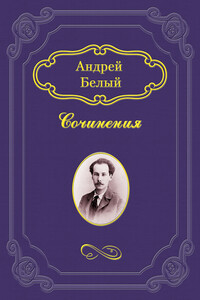Том 4. Маски | страница 8
— Я те кулак-то приляпаю к морде; дугой согну спину; заставлю копать носом хрен: да еще — пришью к пятке нос; да еще — взбочь: впереверт, коловертом».
И — пряталась.
И — наступало молчание.
— «Пой, пустослов, — пой; кусаются и комары: до поры!.. Сам бью больно!»
И — пряталась.
Это Егор Гнидоедов, хозяин, с жильцами соседнего дома беседовал.
По вечерам здесь под лепет деревьев какое-то — «пл-пл-пл» — влеплено в ухо, как тление, —
— как оплевание, как оскорбление, —
— и как
удары дубины по пыли! И ветер, — как вырыв песков сизо-сивых. Какое здесь все — деревянное, дрянное, пересерелое и перепрелое: перераздряпано и расшарапано; серые смеси навесов всех колеров — перепелиных и пепельных, — пялятся в пыли и валятся в плевелы, как перепоицы, —
— сизые, сивы, вшивые, —
— валятся —
в дизентерии и тифы!
И — дом: цвета перца; и — дом: цвета персика; пепельны плевелы; клейкого берега красные глины, заречные песни; и встречные встрепеты ветра.
И домик Клеоклева —
— в пепельных плевелах, пепельно влепленный в пепельном воздухе!
Тителев
— Тителев, Тителев! — у Никанора Иваныча вырвется. — Этот не то, что другие: он — вывод загнет.
Его комната — строгая очень: здесь дерево — дикого цвета; сукно — сизо-серое: кресла, стола; на нем дикие, пятнами, папки; такого же дикого, сизого цвета процветы обой; задерябленный, карий ковер темно-синими каймами пол закрывает; и книжные полки; и — шторная штопань; колпак ремингтона; с пружиною сломанной, кожаный, старый диван; под него туфли втоптаны.
Наисветлейшее, передвигающееся пятно в дикосизом своем кабинетике, — Тителев.
С голубоватым отливом короткая курточка-спенсер, с износами: в зелень и в желчь; брюки — дымного цвета, а галстух, носки и подтяжки с блестящими пряжками — сиверко сини; малиновый, яркий жилет.
Тюбетейка, в которую лысину прячет, — зеленая, с золотцем. Желтая, жесткая очень его борода, как лопата; недавно ее отпустил; лицо — с правильным носом, с глазами, стреляющими из прищура, когда просекаемый черной морщиною лоб передрогами дернется; юркие юморы из-за ресницы; но в криво поджатом, сухом очень редко растиснутом, скрытом усищами рте, — оскорбленная горечь.
Все то выявляло в Терентии Титовиче человека загадочного.
Он, бывало, взяв трубку из желтых усов, — на окно: в буерачищи:
— Душемутительно это: смотрите…
— В глаза не глядят: износились; мещане материи щупают.
— Как им иначе, коли подтиральная тряпка — не юбка; штанина — дранина; как зеркало, локоть.