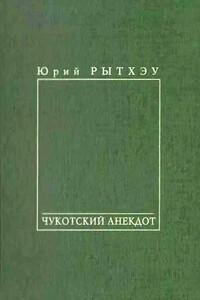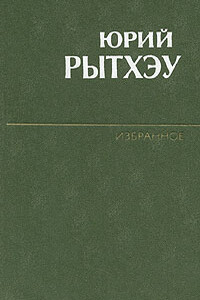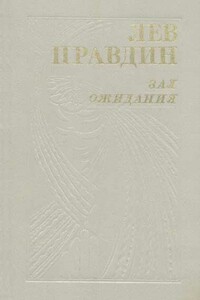Чукотская сага | страница 39
— Ой, что это? — спрашивает Тэгрынэ.
Но толстый пассажир, сидящий перед ней, уже задремал. Ей отвечает другой, сидящий у левого окна:
— Это облака. Мы вошли в облака.
Не проходит и минуты — в кабине быстро светлеет, и вот машина уже вырвалась из облаков, за окнами снова сверкает ясное утро.
— Так бывает, когда поезд выходит из тоннеля, — говорит тот же пассажир. — Все светлее, светлее становится, и, глядишь, поезд вырвался из горы, на простор вышел.
— Я никогда не ездила в поезде, — отвечает Тэгрынэ.
Внизу сопки, сопки, какая-то река вьется серебристой лентой между сопками. Только кое-где землю закрывают серовато-белесые пятна. Это облака; теперь Тэгрынэ уже понимает, что это такое. Правее каждого облака она различает на земле его тень
Самолет идет над облаками, Тэгрынэ летит в Хабаровск!
Худенькая стройная девятиклассница ходила по тундре и собирала цветы. Нет, в руке у неё не было букета, а была толстая, русская книга «Флора Севера», и между страницами этой книги лежали цветы, которые удалось собрать. Там не было двух одинаковых, только разные, только по одному представителю каждого вида.
Девочка наклонялась, и кончики её черных кос касались травы. Девочка выбирала самый лучший цветок, срывала его обязательно вместе с листиком, подсчитывала тычинки и, аккуратно расправив, чтобы ни один лепесток не примялся, прятала находку в книгу.
Это была Тэгрынэ, дочь охотника Мэмыля. Она училась в Анадыре в десятилетке, а на каникулы приезжала к отцу в колхоз «Утро». Матери у неё не было: мать умерла, когда Тэгрынэ была ещё совсем маленькой. Зато с отцом была у неё такая дружба, какой ни у кого из подруг не было с их родителями.
Когда Тэгрынэ кончала четвертый класс, в её родном поселке была только начальная школа, четырехлетка. Но девочке и всем её одноклассникам повезло: в тот же год школа была преобразована в семилетнюю. Через три года состоялся первый выпуск семилетки. Тэгрынэ была в числе лучших выпускников.
Она хотела продолжать учение, и Мэмыль отвез её в Анадырь. Начиная с восьмого класса она пристрастилась к ботанике. Ничто не интересовало её так, как жизнь растений. Её выбрали старостой кружка юных натуралистов. Даже заполярная зима не помешала ей заняться составлением гербариев. Во время воскресных лыжных вылазок она забиралась вместе с подругами на зимние оленьи пастбища под разрытым оленями снегом собирала коллекцию лишайников.
Руководительница кружка учительница Мария Феоктистовна часто рассказывала школьникам о своих родных местах. Родом она была из Брянской области, из богатых лесом краев. Село, в котором она росла, даже называлось Верхние Лесники. С трех сторон к нему подступал дремучий бор, а в самом селе вокруг каждой избы зеленели фруктовые сады. Когда Мария Феоктистовна говорила о том, как шумят леса, глаза её становились задумчивыми. Она смотрела в окно, разрисованное морозом, и вслед за ней начинала смотреть на эти морозные узоры Тэгрынэ. Девочке, видевшей деревья только в кино и на журнальных иллюстрациях, казалось, будто перед нею, сверкая своим серебристо-белым убором, стоит зимний лес. А завывания вьюги, бушевавшей за окном, представлялись шумом деревьев — шумом, которого ей не приходилось слышать ни разу в жизни.