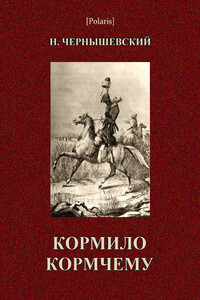Том 3. Литературная критика | страница 76
Одно из важнейших оснований признавать «презренную толпу», то есть большинство, «бессмысленным народом», «тупою чернью» состоит в том, что «современники, встретив с восторгом первые, незрелые, слабые в художественном отношении произведения Пушкина, холодно и даже неприязненно отвернулись от его позднейших, совершеннейших произведений, и тем ясно доказали свою неспособность быть судьями в деле искусства, свою тупость и бессмысленность». В предыдущей статье мы старались показать этот факт в его истинных границах; теперь приведем суждения позднейшей критики, которую никто не отважится обвинить ни в тупоумии, ни в недостатке чрезвычайно тонкого и верного эстетического вкуса, — приведем суждения этой позднейшей критики о самых характеристических и важных произведениях двух различных эпох поэтической деятельности Пушкина, и эти суждения с достаточною ясностью решат вопрос о том, до какой степени был основателен или неоснователен первоначальный восторг и последующее охлаждение публики. Как самые характеристические произведения, мы избираем, для первого периода отношений публики к Пушкину, «Руслана и Людмилу» — первое и «Онегина» — важнейшее по достоинству из произведений, возбудивших всеобщий энтузиазм; для второго — «Бориса Годунова» — первое и важнейшее из произведений, встреченных холодно. Из этих суждений, — справедливость которых никто не захочет оспаривать в настоящее время, если не из убеждения, то из уважения к авторитету, против которого восставать не легко, — мы выведем и общее суждение о Пушкине, которое будет только повторением того, что говорилось в статьях, нами цитируемых, — но которое, — чего доброго, — могло бы, пожалуй, многим показаться и ново, и даже парадоксально (ведь все, чего мы не знаем или что мы забыли, — парадокс) без этих выписок, которые должны совершенно успокоить людей, боящихся мнимых парадоксов, насчет притязаний наших на оригинальность во мнениях: если истина уже сказана другими, не нужно хлопотать о придумывании оригинальностей; должно только повторять ее, чтобы знали или припомнили ее те, кому не мешает ее знать и помнить. Итак, предлагаем наши выписки, — во-первых, о «Руслане и Людмиле»:
«Суд современников бывает пристрастен; однако ж в его пристрастии всегда бывает своя законная и основательная причинность. Ни одно произведение Пушкина не произвело столько шума и криков, как «Руслан и Людмила». Для нас теперь «Руслан и Людмила» не больше, как сказка, лишенная колорита местности, времени и народности; и в наше время не у всякого даже юноши станет охоты и терпения прочесть ее всю, от начала до конца. Но в то время, когда явилась эта поэма, она действительно должна была показаться необыкновенно великим созданием… все (в ней) было так ново, так оригинально, так обольстительно — и стих, которому подобного ничего не бивало, и склад речи, и смелость кисти, и яркость красок, и игривое остроумие. По всему этому «Руслан и Людмила» — такая картина, появление которой сделало эпоху в истории русской литературы. Юноши двадцатых годов были правы в энтузиазме, с которым они встретили «Руслана и Людмилу».