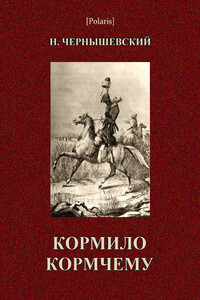Том 3. Литературная критика | страница 33
От этих общих соображений, внушаемых самыми простыми условиями художественности, обращаясь к авторской манере Пушкина, мы находим у него перечеркивание и исправление в чрезвычайно обширном размере, как бы не только отделка стиха, но и самое облечение мысли в стихотворную форму стоило ему чрезвычайных усилий, как бы эти стихи, поражающие прежде всего своею легкостью, писал он с большим трудом, как бы механизм стиха представлял Пушкину затруднения. Г. Анненков собрал в своих «Материалах» очень много данных этой тяжелой, почти хаотической борьбы с стихом. Многие страницы, заключающие в себе, как можно угадывать по некоторым отдельным словам, неизданные стихотворения или отрывки, перечерканы, испещрены помарками до того, что нет возможности восстановить написанное. Почти то же надобно сказать о черновых списках многих стихотворений, переписанных потом самим Пушкиным набело; снимок одного чернового листка «Полтавы», приложенный к «Материалам», утомит внимание каждого, кто попробует разобрать историю образования стихов:
«Почти каждая строка его стихов, — говорит г. Анненков, — свидетельствует об этой особенности его удивительно мужественного таланта. Поучительно видеть, как из страницы, кругом исписанной и, можно сказать, обращенной в самую мелкую сеть помарок, вытекает стихотворение, чистое как алмаз, с роскошной игрой света и в изумительной обделке». Прежде, нежели попробуем объяснить обширность размера, какой принимает у Пушкина отделка стиха, укажем обыкновеннейший результат ее — уменьшение объема стихотворения, строгое уничтожение множества, быть может, половины задуманных стихов. Не будем приводить бесчисленного количества стихов и строф, вычеркнутых Пушкиным из «Евгения Онегина». Два-три примера из других произведений будут достаточны для убеждения в том, до какой степени Пушкин боялся растянутости. Размышление Пимена над своей летописью заключалось в рукописи так:
Из этих десяти стихов Пушкину показался не излишним по своей мысли только предпоследний, и весь длинный эпизод, действительно растягивавший монолог бесполезным повторением того, что высказывается в других стихах его, заменен двустишием: