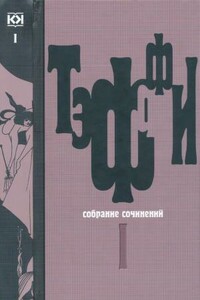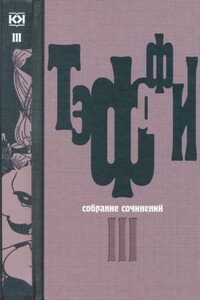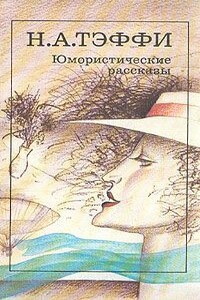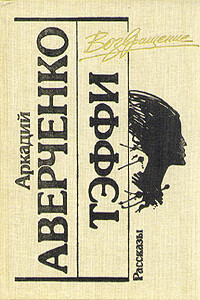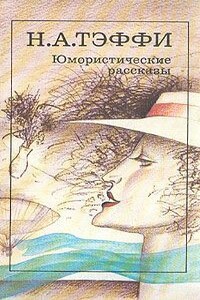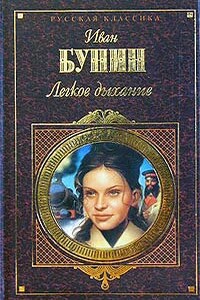Том 2. Карусель. Дым без огня. Неживой зверь | страница 71
— Ха-ха-ха! — рассмеялся с перепугу и директор.
— Ну-с, и еще много в том же роде. Ваши актеры сумеют это разделать; это ведь не «Дама с камелиями» — вполне в ваших силах.
«Дама с камелиями», — мелькнуло в голове у обалдевшего директора. — Почему вдруг «Дама с камелиями»? Что он, Дюма-фис, что ли? Господи, хоть бы режиссер пришел, может, он знает!?
— Ну-с, а теперь поговорим об авансе. Пятьсот рублей. Четыреста пятьдесят сейчас, а с пятьюдесятью могу обождать. Ну-с?
— Простите, но у нас таких больших авансов вообще не…
— Позвольте, дорогой мой, мне некогда терять время. Вы сами взяли от меня пьесу, я должен был подгонять ее под ваш вкус и требования, делать густокомическую и так далее. Теперь, когда подходит дело к расплате, вы поете уже другую песню, и мне, человеку, известному не только в Европе, но и за границей, приходится кланяться за свой собственный труд. Ну, что ж, я вам уступаю. Я согласен на триста.
Сконфуженный директор полез в бумажник.
— Потрудитесь расписаться, — сказал он, подавая автору книгу.
Автор обмакнул перо, написал что-то в роде «Бря» и расписался.
— Бря! — прочел про себя директор. — Господи, вразуми раба твоего Алексия. Кто же это может быть этот «Бря»? Куприн не Бря, и Арцыбашев не Бря, и… и никто не «Бря». Брямс, кажется, какой-то был, да и то, вернее, что Брамс, да и вернее всего, что помер. Все на «Бря» давно перемерли.
Автор ушел, стукнувшись обо все стулья по очереди.
И вдруг директор с отвагой отчаяния кинулся за ним.
— Виноват! Простите, ради Бога! Я только хотел спросить, как ваша фамилия… Как она произносится.
— Прямо как пишется! — с достоинством отвечал автор.
— Я в смысле ударения… Тут многие спорят и ошибаются.
— Прямо Брюквин — чего же тут спорить?
Он пошел вдоль коридора, а директор стоял растерянный и думал:
— Как литература нынче быстро шагает. Вот такой Брюквин. Вчера еще никто об его существовании не знал, а нынче, глядите-ка — по триста рублей авансу рвет. Удивительно!
Сам
Антон Петрович пил чай с малиновым вареньем, но смотрел при этом на яблочную пастилу, и в глазах его мелькало нечто мыслящее. Это нечто после третьей чашки чаю нашло свою форму, облеклось в нее и вылилось вопросом:
— Почем пастила?
— Сорок копеек фунт, — отвечала Евгения Михайловна, жена Антона Петровича. — У Васильева брала.
— Умно! — сказал Антон Петрович.
— То есть, что же это умно?
— Умно брать пастилу у Васильева — вот что умно. Ты думаешь, эта пастила сорок копеек стоит? Нет, милая моя, — пятак она стоит, а не сорок копеек. А этими тридцатью пятью копейками ты купчишке Васильеву только его магазин оплачиваешь да приказчиков, да разные там торговые права, да взятки, да всякую мелкую дрянь, до которой порядочному человеку, если только он не философ, и дела никакого быть не должно.