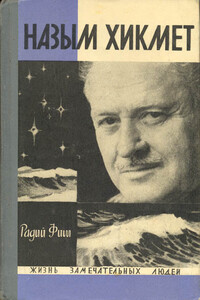Джалалиддин Руми | страница 68
Гаухер так и не оправилась после родов. Не желая докучать мужу, занятому родами собственной души, связывать его своей недужностью, она по собственной воле все дальше отдалялась от него, а он, толком даже не разобравшись, что ею движет, легко принял эту жертву.
Как мог он не догадаться об этом? Не почувствовать, не понять? А ведь он должен был держать ее холодеющие руки в своих, до последнего вздоха глядеть в ее глаза, развеять смертный ужас души ее — ведь даже зерно растения, если оно созрело, зарытое в землю, дает всходы, отчего же мы полагаем иначе о сердце человеческом, созревшем в любви?
Никакие науки мира не могли его этому научить, никакая мудрость не могла утешить, кроме мудрости сердца. Но тогда, в молодости, он только научился повторять ее слова, как попугай дуду повторял слова языка фарси.
Вот что таилось за словами письма к сыну: его, Джалалиддина, собственный опыт. Он не сказал о нем в письме и не скажет до конца своих дней, ибо Велед так же не выдержал испытания, как не выдержал его отец. Но в сорок лет он уже понимал то, чего не понял Велед. А Веледу уже давно за сорок…
Все понимая, наблюдать безумие мира, не будучи в силах ничему помочь и ничего исправить! Чем больше он жил, тем больше убеждался: научить никого ничему нельзя. Можно только указать путь. Пройти его каждый должен сам…
В последний год их жизни в Ларенде, словно требуя возмещения за безмятежную радость предыдущих, несчастья и муки навалились на их плечи одно за другим.
Брат с весны не вставал с постели. Иногда мать со слугами после полудня выводила его под руки в сад. Сидя на толстом тюфяке, прислонившись к стволу абрикосового дерева, Аляэддин подолгу, пока не замерзал в своем ватном халате, — а лето стояло жаркое, — глядел печальными, как у жертвенной овцы, глазами на облака, легко срывавшиеся в бездонно-синее небо с высоких снежных вершин. Нет, не глазами — душой, которая, казалось, вот-вот готова отделиться от его тела так же легко, как эти облака.
Но умер он нелегко — захлебнулся кровью, внезапно хлынувшей из горла, обагрив ею руки, рубашку, шаровары матери, державшей его голову в объятиях, будто она могла удержать его, не отпустить.
В быстро наступивших сумерках раздался крик глашатая, оповещавшего о смерти мусульманина.
И в ответ ему, перекрывая испуганные причитания женщин, раздался с минарета страстный голос муэдзина:
— Аллаху акбару! Аллах велик!
Джалалиддин как истукан опустился на коврик, поднес ладони к щекам и стал молиться. Но слова молитвы текли сами по себе, лишь разум его понимал, что произошло, но еще не мог он сердцем принять случившееся.