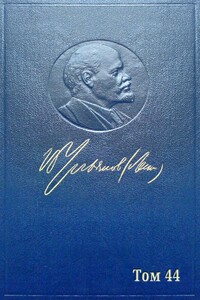После победы все дурное забудется... | страница 27
Ушла из жизни мама, и с ней кончилось наше гнездо. Все это кончилось из-за проклятых немцев. Страшно и грустно думать, что в Мариенбурге - пепелище, что уже никогда не увижу я домика в палисадничке, не скрипнет калитка, как она скрипела десятки лет, как я себя помню. Пока была мама в Мариенбурге - был дом, очаг, привычка детства - приедешь, - и забываешь о возрасте, о своих годах - вступали в права постоянные, повторяемые из года в год привычки, обычаи, потребности, радости. Так, казалось, остановилось само время, или иначе, там все повторялось, как в природе.
Разве можно забыть, как встанешь, бывало, утром, и до умыванья греешься у горячей на солнце стенке цветущей весной, когда облетает черемуха над колодцем, ветер так и плещет в лицо белой, пахучей крупой черемухового цвета. Разве можно забыть, как сладко умываться во дворе, - стоять под этой дедовской черемухой, когда под ногами на земле светятся солнечные круглые просветы, пахнет зреющей малиной, глаза жадно ошаривают кусты, отыскивая созревшую за ночь ягодинку.
А наша столовая летом под шатровой яблоней за колодцем? Разве скажешь, когда там было лучше - весной ли, - когда на стол осыпались бело-розовые лепестки и пчелы с утра до заката густо жужжали над ней, - или ранней осенью, когда гнулись и надламывались ветви ее под тяжестью наливающихся яблок?
Разве с годами пропадало очарование - отыскивать в кустах и крапиве по утрам полузрелые червивые опадыши и съедать их натощак без счета?
А мамин цветничок у помойки, где были укрыты от воров лучшие цветы? Там изгородью стояли пунцовые георгины, табак, штокрозы, там резеда заглушала запах помоев и компоста?
А трогательные грядки, где едва вызревали чахлые прыщавые огурцы, а картошка уходила в ботву, и только укроп щедро одарял нас пахучей пряной зеленью до осени?
А кусты смородины - детская радость, летний праздник?! Как весело было рвать и кидать в корзину веточки красной смороды, отыскивать самые толстые ягоды и по ягодке откусывать от кисточки- веточки или искать винно-темные, перезрелые, сладкие и медленно давить языком.
8 марта.
<...> Что ж записать о быте? Быт тот же. Маруся переживает стадию неистового голода, которую я пережила в январе. Я, уходя, прячу от нее хлеб (для нее же). Вчера она перерыла все ящики шкафа, - и нашла-таки и весь день чувствовала себя виноватой. Я-то ее не виню, я хорошо ее понимаю и стараюсь сделать обед и ужин если не сытнее (не из чего!), то повкуснее, аппетитнее, красивее. Выдача продуктов бог знает как ничтожна: Марусе 200 гр. овсянки на декаду! Вот и комбинирую, что могу, со столовой и, надо сказать, что это нелегкое дело. У нас понемногу вырабатывается норма: 35 гр. крупы на кашу на каждую из нас. Разве это не кукольная порция? Но больше не из чего. Больше нет. Клянусь, будет сделано все, чтобы продержаться до лучших дней, пока есть силы, - но продержимся, это вопрос открытый, смерть сторожит у дверей. Пару дней тому назад навестила институт усовершенствования учителей. В феврале здание еще вдобавок к осенним разрушениям разрушено вражеским снарядом. Внизу в кабинетах разбитые рамы, ветер гуляет, мерзость запустения. Живые сотрудники забились в кухню на 3-ем этаже. Видела из знакомых Гиттис и Люденскую. У Изабеллы Васильевны настроение безрадостное. У Люденской погиб 17-летний сын - ушел из дому по делам и не вернулся, - по-видимому, ослаб, упал и замерз, - а дальше известно что - морг, и концов не найти никогда.