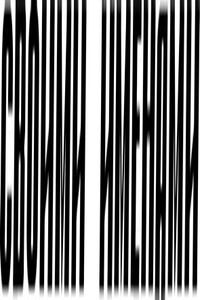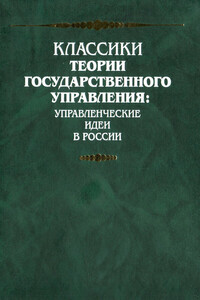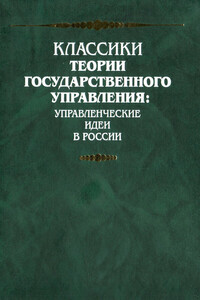Газета "Своими Именами" №31 от 02.08.2011 | страница 47
И он им активно пользуется с первых строк своих возражений.
В самом деле, какие могут быть доказательства«эффективной бесперебойной работы социальных лифтов» и появления «национально-ориентированных профессиональных элит управленцев» при прямой демократии, если повсеместно царствует представительная? От самых респектабельных западных демократий до самого последнего диктатора в мире, все объявляют себя исключительно выразителями интересов своего народа. Прямое народное правление ни одному такому народному представителю не нужно, потому его нигде в мире пока и нет. Ну а раз нет прямой демократии, значит, нет и доказательств. Вот когда появится, тогда и сравним. По силе убедительности этот аргумент перекликается с известным анекдотом: когда научитесь прыгать с вышки, тогда и нальем воду в бассейн.
Впрочем, там, где вариант с бассейном не проходит, неудобных положений можно просто не замечать. Оппонент упрекает меня в отсутствии теории, доказывающей действенность прямой демократии. Напрашивается вопрос: а что он, собственно, считает теорией?
Если исходить из определения этого термина, данного Википедией: «Теория (греч. qewria — рассмотрение, исследование) — совокупность умозаключений, отражающая объективно существующие отношения и связи между явлениями объективной реальности».
Вот эти объективно существующие отношения и связи между явлениями объективной реальности, то есть представительной демократии, из которых следует вывод о необходимости прямой демократии, как раз и составляют суть двух моих первых статей. То есть являются той самой теорией, которую не видит мой оппонент.
Точно так же он не видит «действенного механизма прямой демократии», рассмотрению которого посвящены две последние статьи цикла.
Суть приема одна и та же: с чем не можешь спорить – объявляй несуществующим. Именно это я и называю передергиванием, то есть – шулерским приемом, ради которого надета маска анонима.
Впрочем, помимо передергивания, мой оппонент затрагивает и некоторые любопытные темы, в которых не мешает разобраться.
Так, например, он приводит статистику обсуждения вопросов в Госдуме (30-60 за заседание), добавляет к ним региональные и местные законодательные органы и задается вопросом, как это народ сможет принимать такое количество решений?
Во-первых, замечу сразу, каждый участвующий в прямой демократии вовсе не должен присутствовать на всех уровнях управления. Это его право, а не обязанность. Он может участвовать в том, что считает для себя важным и интересным, и, соответственно, сузить или расширить область свою личную область прямой демократии.