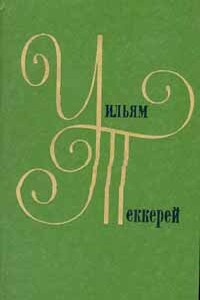Ньюкомы, жизнеописание одной весьма почтенной семьи, составленное Артуром Пенденнисом, эсквайром (книга 1) | страница 101
Мистер Сэмюел Ридли, доверенный слуга и дворецкий достопочтенного Джона Джеймса, барона Тодмордена, всегда с отчаянием думал о своем единственном сыне — маленьком Джоне Джеймсе — болезненном и горбатом мальчике, из которого, он говорил, "ничего путного не выйдет". Юноша с таким сложением не мог унаследовать профессию отца и ухаживать за британской знатыо, разумеется, желавшей, чтобы на запятках ее карет и за ее обеденным столом стояли рослые, красивые мужчины. В шесть лет Джон Джеймс был ростом не выше посудной корзинки, как со слезами на глазах утверждал его родитель. Мальчишки на улице смеялись над ним и, хотя он был очень маленький, поколачивали его. Не слишком преуспевал он и в ученье. Вечно больной и неопрятный, робкий и плаксивый, он подолгу хныкал на кухне, забившись в какой-нибудь угол, подальше от матери, которая, хотя и любила его, однако, как и отец, считала никудышным и чуть ли не идиотом, покуда им не занялась мисс Канн, поселив в сердца родителей некоторую надежду.
— Дурачок, говорите?! — возмущалась мисс Канн (она была женщина темпераментная). — Это он-то дурачок! Да в одном его мизинце больше ума, чем в вас, верзила вы эдакий! Вы хороший человек, Ридли, добрый, спору нет, даже терпите такую несносную старуху, как я. Но умом вы не блещете. Нет, нет, дайте мне сказать. Газету вы до сих пор читаете по складам, а ваши счета, хороши б они были, если б я не переписывала их набело? Говорю вам — у мальчика талант! Вот увидите, когда-нибудь о нем заговорит весь мир. У него золотое сердце. По-вашему, кто рослый, тот непременно умный? Поглядите на меня, верзила вы несчастный! Да я во сто раз умнее, чем вы! А Джон Джеймс стоит тысячи таких ничтожных малюток, как я! И, кстати, ростом он не ниже меня. Слышите, сэр?! Когда-нибудь, вот увидите, он еще будет гостем у лорда Тодмордена. Он получит премию Королевской Академии и будет знаменитостью, сэр. Знаменитостью!
— Что ж, мисс Канн, дай-то бог, вот все, что я могу сказать, — отвечал мистер Ридли. — Худого он не делает, это я не спорю, только и путного пока ничего не видать. А пора бы! Ох, пора бы! — И достойный джентльмен снова погрузился в чтение своей газеты.
Юный художник мгновенно придавал зримую форму прекрасным мечтам и образам, которые мисс Канн вызывала к жизни своей чудесной игрой. Рыцари в латах, с султанами на шлемах, со щитами и секирами; блестящие молодые кавалеры в пышных кудрях, щедро убранных перьями шляпах, с рапирами и в темно-красных ботфортах; свирепые разбойники в малиновых трико, в куртках с крупными медными пуговицами и с короткими старинными палашами в руках, которыми, как известно, всегда орудуют эти бородатые головорезы; молодые пейзанки с осиной талией; юные графини с огромными очами и алыми, как вишни, губками, — все эти восхитительные образы мужественности и красоты нескончаемым потоком слетали с карандаша юного художника и заселяли листки его тетрадей и обороты старых конвертов. Когда ему случалось набросать какое-нибудь особенно привлекательное личико — сладостное ли видение его мечты, танцовщицу, замеченную на подмостках, или ослепительную светскую красавицу, которую он видел в театральной ложе, или вообразил, что видел (юноша близорук, хотя пока еще не догадывается об этом), — одним словом, когда какой-нибудь рисунок был особенно ему по сердцу, наш юный Пигмалион прятал свой шедевр, разрисовывал красавицу со всем тщанием, — губы ярким кармином, глаза темным кобальтом, щечки ослепительной киноварью, а локоны золотом, — и тайно поклонялся восхитительному творению своих рук; он придумывал целую историю: про осажденный замок, про тирана, заключившего ее в темницу, про чернокудрого принца в усыпанном блестками плаще, который взбирается на башню, сражает тирана и, грациозно преклонив колено, просит принцессу отдать ему руку и сердце.