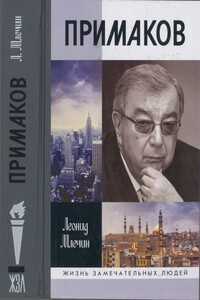Воспоминания декабриста о пережитом и перечувствованном. Часть 1 | страница 5
Отец устроил также в Чернышеве, верст 8 от Ершова, восковой завод, который очень занимал его. Он там делал пробу восковым свечам, расставляя их в кабинете на столах; и помню, что в это время мы уже не смели войти в эту комнату, чтобы малейшее колебание воздуха не мешало правильному горению. Мы, дети, очень боялись его, так как он был строг, его вместе с этим чтили и любили его безмерно. Когда, после обеда, он отдыхал, мы все ходили на цыпочках и говорили шепотом, зато малейшая ласка его делала нас счастливыми. Но не мы одни, а все служащие в доме и имении очень боялись его и в то же время любили. Все знали, что его приказания и распоряжения не могли не быть исполнены в точности, и это не вследствие каких-либо тяжких наказаний или побоев, которых он избегал, а единственно вследствие той нравственной силы, какою он обладал, и в уверенности, что каждое распоряжение его было обдуманно и делалось с полным знанием дела. Он любил порядок и точность во всем строе жизни, как в делах обыкновенных, так и важных. Был очень гостеприимен, любил хороший стол, но сам был очень воздержан и умерен; курил свою пеньковую трубку только три раза в сутки, и вообще во всем его жизнь может служить образцом благотворно деятельной и обдуманно правильной жизни. Он не любил посредственности; все вещи и вещицы, которые он употреблял, были лучшего качества и изящны, во всем была видна печать его своеобразного характера. Когда я дорогой, ехавши в отпуск, потерял свой табак и матушка отыскала в кладовой оставшийся после него табак, то оказалось, что это был лучший американский табак, известный тогда под названием "Р. Я.".
Помню его белку, которая обращалась с ним очень бесцеремонно, так что, когда ее выпускали из клетки, она взбиралась на него и пряталась в его рукаве. Помню также, что я этой белки, когда она бегала по комнате, сильно побаивался, не смея, однако ж, высказать своей боязни. Помню также его большого ворона, который очень чисто говорил: "Ворон слава Богу", "Ворону кушать", "Петр Гаврилович" и еще несколько слов, которых не помню; у него также был сурок, всегда прибегавший на его свист; как-то он умел приучить и крота. По рассказам, он брал рукою змею и, встряхнув ее, клал за пазуху. Он любил грозу и всегда в это время выходил на крыльцо. Он отлично стрелял, фехтовал, ездил верхом — словом, это был человек замечательный и достойный быть принятым за идеал[2]. Ко всему этому, отец мой был очень красив, среднего роста, строен, с правильными чертами лица и очень симпатичным выражением; у него были большие выразительные голубые глаза, каштановые волосы, очень густые, и до самой смерти никто не замечал, что он носил маленькую накладку на самом темени, где была небольшая лысина. Ни бакенбард, ни усов он не носил. Зубы у него были по белизне, правильности образцом совершенства, и до самой смерти не было ни одного испорченного. Он был веселого, ровного характера, но очень вспыльчив, хотя эта вспыльчивость мгновенно проходила. В обществе это был самый приятный человек, как отзывались о нем все его знавшие. Он очень красно говорил, что было особенным его даром, и разговор его всегда был оживленный и увлекательный; любил также музыку; инструментами его были гусли, бандура и, как говорили слышавшие его игру, играл он с большим чувством. По преданию, он в молодости был влюблен в свою двоюродную сестру, просил у митрополита разрешения жениться, но, получив отказ, покорился уставам Церкви. Затем уже, через несколько лет, находясь с полком в Финляндии, он женился в Выборге, по любви, на одной шведской дворянке Верениус, моей незабвенной матери. Она разделяла с ним труды походной жизни, и в это время у них родились две дочери, Екатерина и Елизавета, потом, уже в Петербурге, родились еще две дочери, и последним, в Петербурге, родился я. Меня назвали Александром, именем Государя, которому отец мой был предан до энтузиазма.