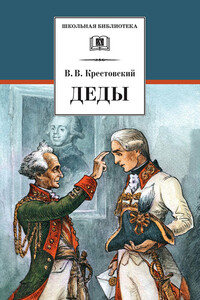Письма к Луцию. Об оружии и эросе | страница 129
Как замечательно подметил Аристотель: «Και τούς έπαινοϋντας τα υπάρχοντα άγαθά, και τούτων μάλιστα ά φοβούνται μή ύπάρχειν αύτοΐς!»[265]
Представь себе: она сумела разглядеть во мне доброту. Я не верю в мою доброту, не верю. Помнишь, когда мы плыли с Кипра на Родос, у берегов Киликии за нами погнались пираты? Я взял лук и принялся расстреливать их (главным образом, их гребцов), а ты прикрывал меня щитом. В какой-то миг ты взглянул на меня, ужаснулся, но затем усмехнулся и сказал: «Откуда в тебе столько злости, Луций Сабин?» Они все-таки догнали нас и зацепили «воронами»[266]. Себе же на горе…
Я не верю в мою доброту, и все же… φύσις κρύπτεσθαι φιλει[267]. Может быть, за это я люблю ее? И за это тоже?
Она сказала мне о моей доброте через несколько дней после нашей второй ночи, раздумывая о том, правильно ли поступила, отдавшись мне. Я искренне удивился и сказал, что в доброту мою я не верю. Я сказал, что обладаю рядом других прекрасных качеств, которые при определенных обстоятельствах могут восприниматься как доброта. Тем не менее, она настаивала.
А через какой-то час, когда мы снова оказались у нее в доме, у нее вдруг прорезалась враждебность ко мне. Она стала нападать на меня за то, что совсем недавно так нравилось ей. При этом она то и дело повторяла: «Мне, конечно же, нет до этого никакого дела…» Я пытался защищаться. Она настаивала. Защищался я вяло. Это был первый и единственный раз, когда говорила больше она. Однако говорила она опять-таки исключительно обо мне. Я отвечал со всей серьезностью, хотя и очень скупо. Посреди этого весьма хладнокровного спора я сказал, что очень желаю ее. Она ответила: «И я тебя тоже желаю».
Она нападала все энергичнее, словно желая вызвать во мне сопротивление. Она договорилась до того, что обвинила меня в совокуплении с деревьями (в переносном смысле, конечно). Возражать я не стал. Я подошел к ней и положил голову ей на колени. Она продолжала свои нападения, однако уже с каким-то сомнением. Я попросил ее положить мне на голову ладони. Она сделала это, но нападений, правда, уже вялых, не прекратила.
Затем она поднялась и повела меня на ложе. Это была наша третья ночь.
Когда Флавия разделась, снова явив столь желанную мне наготу свою, она желала меня до трепетности каждой частицы своего тела, до дрожи в голосе, но сомнение вдруг охватило ее, и она прошептала: «Он ведь так любит меня…». Тело ее раскинулось передо мной, готовое принять меня, готовое отдаться моему порыву и моей нежности и восторженно следовать им. Ее сомнение на мгновение проникло в меня: оно было как легкая горечь фунданского вина, ощутимая только при первом глотке. Я сделал этот первый глоток, после которого приятный жар разлился в груди, вызывая прилив силы. Возникает чувство, будто противник нанес тебе самый сильный удар, на который он только способен, но ты выстоял, и уже знаешь, что выстоишь и впредь. За это я люблю фунданское.